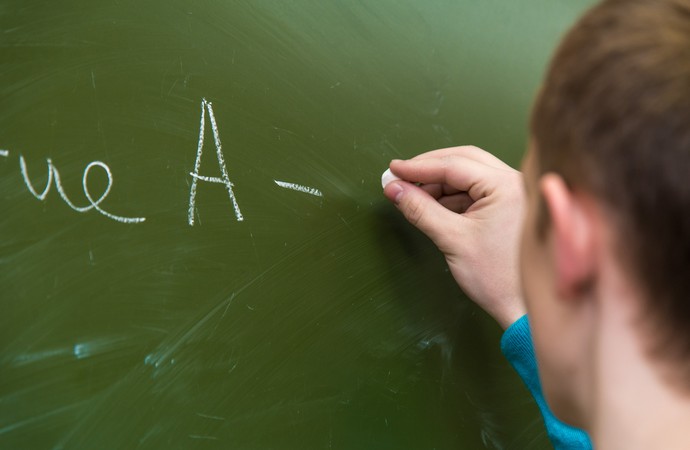Александр Бикбов
О революции личности
Чаще всего революция определяется как момент эмансипации, создающей возможности или реализующей возможности, которые ранее реализовать было нельзя. Происходит это с шумом, криком, потрясениями: нельзя не заметить этого процесса. Таковы, в частности, революционные события «1968-х годов» во Франции, которые сделали возможными легальные аборты, критическую и социально ориентированную прессу, систему неправительственных организаций, социальные центры и жизнь в коммунах, новые образовательные структуры и властные институции, мини-юбки, свободный секс. В свою очередь, «оранжевая революция» в Украине, если я сделал правильные выводы из дискуссий с киевскими коллегами, показала, что за политику здесь больше не убивают. Машина насилия была остановлена, стало возможно заниматься политикой как формой ненасильственной активности, относительно безопасной игры. Это видимые следствия «громких» революций. Но еще чаще не менее значительные перемены в обществе являются результатом целого ряда тихих и незаметных сдвигов, которые происходят без шума и потрясений и мало похожи на «настоящую» революцию. Можно сказать, что «громкие» революции – результат «тихой» работы истории, в ходе которой формируются новые смыслы, исчезают и появляются институции, меняются микроструктуры власти. Потом может случиться «громкая» революция, но ее может и не произойти – а общество уже изменилось.
 Именно такие незаметные подвижки интересуют меня в контексте 1950-1970-х гг. по обе стороны «железного занавеса», которые сместили границу между буржуазным и социалистическим обществом, казавшуюся столь неколебимой. Если такие изменения не фиксируются в форме осязаемого и единичного запоминающегося события, можно попробовать нащупать их некоторыми другими способами. Один из них — анализ привычного и скучного словаря официальной политики, которая оформляет «вечный» порядок. На протяжении XX века крайне показательные результаты подемонстрирует эволюция таких одновременно научных и политических понятий, как «труд», «личность» или «гуманизм». Если анализировать эти слова в контексте официальной риторики – в тексте Конституций, программных документах партии, в речах генсеков и президентов, в газетных статьях – можно обнаружить, что бессмысленная политическая трескотня на самом деле наполнена смыслом. Так, в советской истории понятия «личность» или «гуманизм» оказываются теми ключевыми пунктами, где преломляется вся социальная действительность.
Именно такие незаметные подвижки интересуют меня в контексте 1950-1970-х гг. по обе стороны «железного занавеса», которые сместили границу между буржуазным и социалистическим обществом, казавшуюся столь неколебимой. Если такие изменения не фиксируются в форме осязаемого и единичного запоминающегося события, можно попробовать нащупать их некоторыми другими способами. Один из них — анализ привычного и скучного словаря официальной политики, которая оформляет «вечный» порядок. На протяжении XX века крайне показательные результаты подемонстрирует эволюция таких одновременно научных и политических понятий, как «труд», «личность» или «гуманизм». Если анализировать эти слова в контексте официальной риторики – в тексте Конституций, программных документах партии, в речах генсеков и президентов, в газетных статьях – можно обнаружить, что бессмысленная политическая трескотня на самом деле наполнена смыслом. Так, в советской истории понятия «личность» или «гуманизм» оказываются теми ключевыми пунктами, где преломляется вся социальная действительность.
Термин «гуманизм» в советской официальной риторике является точкой, которая скрепляет между собой целый набор базовых политических понятий. Часть этого набора остается константой на протяжении всей советской истории, начиная с 1920-х гг. Это касается, в частности, «освобожденного труда» и «заботы о простом человеке». Но есть и переменная часть, которая отражается в эволюции, казалось бы, неизменного и неизменно пустого понятия «социалистический гуманизм». В 1930-е годы, в дополнение к освобожденному труду и заботе о простом человеке, гуманизм определялся через ненависть к классовому врагу. Позже, в 1940-е эта ненависть переносится на врага Отечества.
В 1950-е гг., с окончанием Второй мировой войны и возобладанием умеренно-либеральной фракции в госаппарате, определение социалистического гуманизма меняется. На место «ненависти» приходят понятия «мира» (не-войны) и «дружбы». Причем дружбы, не ограниченной рамками одного класса, а применимой ко всему человечеству. Новое определение предполагает союз всех «людей доброй воли», всех заинтересованных в прогрессе.
В 1970-х гг. происходит еще более решительный сдвиг. Тематика мира и дружбы в определении гуманизма уступает место новому понятию — «правам человека». При том, что в 1920-е гг. социализм прямо связывается с отрицанием буржуазных прав и свобод. В смысловом поле советской политики граница между социализмом и буржуазным обществом теряет ясные очертания. Эта тенденция намечается уже в 1960-х гг. и закрепляется в политических и юридических комментариях к тексту новой советской Конституции 1977 г. Здесь утверждается, что права человека и гуманизм в СССР являются «подлинными», в то время как на Западе — «извращенными». При этом никто из комментаторов не способен объяснить, в чем именно заключается различие.
Таким образом, за 40 лет происходит головокружительный сдвиг в определении гуманизма, а через него — и социализма — от мобилизационного, милитаризованного понятия, основанного на ненависти и классовой борьбе, к чему-то дружелюбному и едва отличимого от буржуазного порядка.
В этом же интервале в официальной риторике происходит не менее решительный и столь же «тихий» сдвиг в контексте другого стратегически важного понятия — «личность». Доминирование над личностью «масс» и коллектива, закрепленное в 1920-х, в конце 1950-х поколеблено автономией личности, развитие которой объявляется самоценным. Личность начинает ассоциироваться не с подчинением коллективу, а со свободным временем, с индивидуальным благосостоянием и широким ассортиментом потребления. Уже в речи Леонида Брежнева 1971 г., обращенной к очередному съезду КПСС, можно обнаружить формулу, которая была бы абсолютно непредставима в 1930-е в каком-нибудь выступлении Иосифа Сталина: «Сфера услуг… это не просто отрасли, призванные выполнять план, а службы, непосредственно имеющие дело с людьми, со всем разнообразием их вкусов, с человеческим настроением». Трудно вообразить, чтобы Сталин говорил об индивидуальных вкусах: в его речах 1930-х и даже начала 1950-х потребительские мотивы сводились к тому, чтобы «поднять бедноту до зажиточной жизни». В официальных текстах появляются термины «личная инициатива», «творчество личности» и т.д. Точно так же, достаточно сравнить оглавление 1-ого номера журнала «Вопросы психологии» (1955) и статей начала 1960-х гг.: если в 1955 г. обсуждаются вопросы труда как условия развития чувствительности и воспитание ребенка в свете теории рефлексов Павлова, то несколько лет спустя редакционный материал и весь выпуск могут быть посвящены гуманистическому развитию личности ребенка.
Эти процессы происходят синхронно по обе стороны «железного занавеса». Так же, как и в СССР, во Франции 1950-х власти вдруг озабочиваются индивидуальным благосостоянием граждан. Начиная с этого времени французская пресса регулярно печатает бравурные репортажи о росте числа французов, имеющих в своей квартире ванну, телевизор, холодильник. В сфере услуг и здесь, и там происходит переход от фордистской модели послушного работника, дисциплинированной машины, к новой модели сотрудника предприятия, который сам заинтересован в успехе производства.
В СССР смягчились формы преследования политических оппонентов: если при Сталине им предназначался лагерь или расстрел, то в последующую эпоху политический протест и в СССР, и на Западе подвергся психиатризации: государство стало представлять инакомыслящих не как сознательных и опасных преступников, а как психически нездоровых людей. В целом, режим управления обществом сместился от стратегий силового доминирования к строительству собственной культурной и экономической гегемонии как внутри страны, так и за ее пределами. С этим обстоятельством во многом связано повторное рождение социальных наук в СССР. Так, побывав на Международном социологическом конгрессе 1956 г., делегация советских ученых была поражена: зарубежные интеллектуалы в открытую порочат СССР! Но реакцией был не разрыв связей, а наоборот, их интенсификация: на Запад начали отправлять больше ученых, чтобы те разъясняли коллегам «преимущества социалистического образа жизни».
Наконец, понятие «массы», столь важное в советской риторике еще с дореволюционного периода до 1950-х гг., постепенно исчезает из лексикона вождей и уже практически не встречается в 1970-х гг., где его заменило понятие «население». Население не сводится ни к «массам», ни к «подданным». За ним признается собственный смысл, специфическое целеполагание, стремление к собственному благу, не совпадающему с благом руководства. Согласно Мишелю Фуко, само понятие «население», как политическая и административная категория, появляется в тот момент, когда государство перестает мыслиться как собственность суверена и начинает определяться через светский государственный интерес и аппарат его реализации — правительство, профессиональный слой, берущий на себя организацию населения, этой новой реальности. Показательно, что Фуко возводит генезис «либерального правления» к европейскому XVI в., но разрабатывает он эту концепцию как раз в 1970-х гг., по ту сторону «железного занавеса», т.е. в тот момент, когда «тихие» политические революции происходят параллельно и в СССР, и во Франции.
Параллельно происходит еще одно ключевое изменение: если ранее высшее руководство государства претендовало на прямое вмешательство в смысловые и организационные структуры науки (вспомним «языковеда» Сталина), то начиная с 1960-х эта модель прямого политического участия в интеллектуальном пространстве растворяется в противоположной тенденции. Начинают складываться основы экспертного порядка, когда политическое руководство не вмешивается само в производство интеллектуальных смыслов, но организует вокруг себя пояс экспертных советов, где главную роль принадлежит Академии наук. В послевоенный период ученые все плотнее включаются в предварительные совещания, в составление перспективных прогнозов и планов развития общества на 5 и 10 лет, таким образом постепенно интегрируясь в аппарат принятия решений. Без громких слов и потрясений происходит возникают некоторые структуры, принципиально близкие модели европейского либерального управления обществом.
О легитимности социального устройства
Самый распространенный взгляд на социальный порядок – это что-то, навязанное извне нашей свободной личности. Однако это очень ограниченный и льстящий нам способ определять свое существование в обществе. На самом деле, социальный порядок лежит не только на стороне институций и внешнего принуждения, он заключен также внутри нас самих, проявляясь в привычках, мнениях, в консенсусе с другими. Это хорошо показало исследование механизмов, легитимирующих социальное неравенство. В его рамках я предлагал людям из нескольких европейских стран (прежде всего, России и Франции), представителям разных социальных слоев, сделать рисунок общества, каким они его себе представляют. Другим респондентам я предлагал распределить по группам карточки с названиями разных профессий, выстроить из них иерархию, после чего поменять этот порядок согласно справедливости. Результаты оказались очень интересными. Они выявили как межстрановые отличия в восприятии людьми социального устройства, так и сближения между людьми, которые живут в разных обществах, но занимают схожие социальные позиции.
Например, в России практически отсутствует такая профессиональная категория, как «ремесленники» – что объясняется разделением труда, сложившимся в советский период. Поэтому те профессии, которые французские респонденты помещают в обширную категорию ремесленников – от булочников и сапожников до (гораздо реже) продавцов электроники – жители России относят к промышленным рабочим или служащим. Интересно, как воспринимаются такие двусмысленные профессиональные категории, как спортсмен. В России спортсмен – это, прежде всего, человек, работающий телом. Во Франции это человек, появляющийся в телевизоре. Он попадает в одну категорию с журналистами и телеведущими, нередко служит «лицом» профессий, связанных со СМИ.
Кто менее всего склонен считать существующую иерархию несправедливой и переворачивать ее? Во Франции это госслужащие. Когда предлагаешь им поменять реконструированный в ходе исследования порядок, в ответ можно услышать: «Ну, я же не радикал! Меня, конечно, не все устраивает, но всерьез менять ситуацию я бы не стал». Это касается служащих самого разного положения: от преподавателей университетов и министерских чиновников до слесаря, состоящего на муниципальной службе. Следует заметить, что именно французский госсектор полнее всего охвачен профсоюзным движением: казалось бы, парадокс. Но именно сотрудникам госсектора присущ своеобразный и мало понятный в России консерватизм социал-демократического толка – стремление сохранить те завоевания, которые уже сделали возможным более справедливое распределение ресурсов. Многие госслужащие чувствуют себя хранителями этих завоеваний, и когда со стороны правительства Саркози звучат призывы коммерциализировать сферы культуры, науки, воспитания, общественных услуг – они встречают сопротивление, исходящее прежде всего из госсектора.
Радикалов, более активно настроенных на изменение существующего порядка, больше среди культурных и политических активистов, а также среди ремесленников. Как правило, в случае ремесленников речь идет о людях, медленно взошедших по ступеням социальной лестницы, достигших известных высот в сравнении со своим изначальным положением, но достигших некоего «потолка». У них нет возможности двигаться дальше, и они наиболее остро ощущают потребность в том, чтобы изменить существующую иерархию, сделать ее более справедливой. В то же время, существует меньшинство, которое хочет изменить порядок в сторону большего неравенства. Например, у меня был респондент, разместивший рабочих где-то посередине общественной пирамиды, он был готов сместить их на самое дно. Как правило, подобный взгляд на общество четко коррелирует с правоконсервативными политическими убеждениями, которые, в свою очередь, вписаны в биографические обстоятельства. Этот респондент отнюдь не принадлежал к аристократии. В классических терминах, он был классическим представителем консервативной мелкой буржуазии: выходец из деревенской Франции, владелец парикмахерской в центре Парижа, обладатель скромной и во многом скучной жизни, ксенофоб.
В России наиболее радикально ставят под вопрос сложившийся порядок люди старшего возраста, нередко рабочих специальностей или квалифицированные специалисты, которые в результате социальных пертурбаций двадцатилетней давности утратили прежнее социальное положение. Поменять местами «олигархов» и «работяг» для них, во многом — не революционный, а реставрационный жест: реванш за утраченное. Но этим все не ограничивается. Например, к изменению социального порядка также склонны молодые интеллектуалы, которые находят, что в современном российском обществе верхушку социальной пирамиды сегодня занимают деньги, а должна занимать культура. Это вторая категория потенциальных ниспровергателей существующей иерархии, родственная в России и Франции: профессионалы от культуры, молодые и не очень, стремящиеся заменить олигархию культурной элитой. Впрочем, следует отметить, что в большинстве случаев люди не переворачивают всю социальную пирамиду вверх дном, а совершают локальные перемещения – порой меняют местами лишь какие-нибудь две социальные группы. Наиболее консервативными ожидаемо оказываются те, кто более всех удовлетворен собственным имущественным положением и потому не намерен ничего менять.
Это исследование делает более различимой работу механизмов, заложенных в основу всех современных обществ. В каждом из наших обществ функционирует несколько автономных сфер, со особой, конкурирующей с прочими, логикой. Так, в основе сферы культуры или образования лежит логика общего достояния, которая конфликтует с логикой рынка, ориентированной на максимальную прибыль. Помимо профессиональной, в современных обществах действуют другие источники легитимации социальной иерархии. Особенно интересно прослеживать их по рисункам школьников и студентов, чей практический профессиональный опыт крайне ограничен — они получают решающий социальный опыт «по доверенности», из рук родителей и образовательных институций. В свете этого обстоятельства крайне показательно, что в образ российского общества они нередко включают президента и институты государственной власти. Эта замена социальных категорий категориями государственными является результатом сложно структурированного педагогического воздействия. Схематика школьного мира – отношений между учителями и учениками – накладывается на модель семейной власти – отношений между родителями и детьми – и подкрепляется фоновыми образцами, производимыми СМИ.
О коммерциализации образования
Формально говоря, реформы постсоветского и западноевропейского образовательного пространства — «одни и те же». Они предполагают унификацию образовательной модели и коммерциализацию обучения. Здесь мы в одной лодке. Однако есть и некоторые «нюансы», которые решающим образом меняют смысл реформ «у нас» и «у них». Предварительно стоит заметить, что весь «пакет» образовательных реформ не сводится к Болонскому процессу, под эгидой которого реформируются университеты. Речь идет о более обширном проекте коммерциализации социальной сферы, ранее находившейся на балансе государства. Гораздо более скромный Болонский процесс уже несколько лет назад оказался подчинен этой задаче. И здесь вступают решающие «нюансы». В Западной Европе единое университетское пространство, заложенное еще в Средние века, сохраняет корпоративные или, более точно, коллегиальные черты — в отличие от российских университетов, созданных монаршей волей в XVIII в. в качестве кузницы кадров для государственной элиты. Во Франции даже наполеоновским реформам не удалось вытравить из университетов корпоратистский дух, который и сегодня служит опорой для университетского самоуправления и попыток сохранить университетскую автономию. В наших же странах таким «реликтам» средневековой организации было попросту неоткуда взяться (даже с учетом Киево-Могилянской академии, созданной уже на излете той эпохи). Это различие в характере университета как организации коллегиальной в западноевропейском контексте и существенно более глубоко иерархизированной в постсоветском следует иметь в виду при обсуждении объекта образовательных реформ.
Второй «нюанс» касается различия в моделях коммерциализации. Когда консервативные критики утверждают, что злая воля европейцев, навязывающих нам свои правила, разрушает нашу «классическую» систему образования, нужно помнить, что на самом деле наши страны далеко опередили Западную Европу в ходе опережающей «болонизации». В Западной Европе насаждение новой модели конфликтует с традициями университетского самоуправления и независимости от каких-либо внешних сил (государства или бизнеса), отчего ход коммерциализации образования оказывается более конфликтным и щадящим. В России, в Украине болонская модель «белой» коммерциализации сталкивается с фактической «черной» и «серой» вузовской коммерцией, которая утвердилась в образовательном пространстве с начала 1990-х гг. Именно после 1991 г., в условиях сокращения базового государственного финансирования, вузы начали сдавать в аренду площади, а взятки и иные виды «черного» оборота были превращены в своеобразную «почти-норму». Поэтому сегодня мы имеем совершенно другую систему: российские и украинские начальники от образования навязывают болонскую систему, прежде всего рассчитывая на то, что она снизит уровень коррупции. То же происходит и с единым выпускным-вступительным экзаменом (ЕГЭ), который не имеет с Европой ровным счетом ничего общего: в европейских университетах вообще нет вступительных экзаменов.
Независимо от того, насколько сильным окажется антикоррупционный эффект образовательных реформ в «болонском» стиле, однозначно можно сказать, что на качество образования эти реформы влияют резко отрицательно. Прежде всего потому, что по факту Болонский процесс – это сверхбюрократизация образовательной процедуры. Подготовка детализированных программ, составление планов и отчетов, регулярная промежуточная отчетность по ходу преподавания, финальная аттестация – в результате преподаватели в Европе и в наших странах, где зарплата остается прежней или падает вследствие экономического кризиса, получают бюрократическую нагрузку в дополнение к растущей педагогической. Конечно, это сказывается на качестве преподавания.
Происходят и иные, весьма негативные изменения, не связанные с Болонским процессом напрямую, но на практике сопровождающие его. Так, дирекция вузов все чаще получает право самостоятельно распоряжаться наймом преподавателей. Для придания вузу «звездной» респектабельности, для привлечения студентов администрация начинает приглашать на преподавательские места известных людей, нобелевских лауреатов и международных звезд. Такие преподаватели не будут читать большого числа курсов, но им нужно платить большие деньги. В результате урезается образовательный бюджет в расчете на каждого студента и преподавателя. Остальные преподаватели вынуждены брать на себя большую нагрузку и отказываться от исследовательской практики. А ведь в европейских университетах, в отличие от советских, исследования никогда не находились в отрыве от преподавания. Индекс цитирования, который, по замыслу реформаторов, должен служить одним из критериев оплаты труда, у большинства преподавателей падает, они все больше погружаются в образовательную и бюрократическую рутину. «Звездные» преподаватели преподают все меньше, «рядовые» берут на себя все больше часов: в результате, естественно, страдает уровень образования, которое получают студенты. Коммерциализация и менеджериализация образования оказываются гораздо более действенным средством саботажа, чем идеологическая пропаганда или действия разведок времен «холодной войны». В Германии и Франции уже имеются порядочные «досье» по этим проблемам: преподаватели оценивают текущие реформы как угрозу не только их личному и профессиональному положению, но и смыслу преподавания, образовательной системе в целом.
В отличие от названных «нюансов», эти «общеевропейские» угрозы актуальны и для наших стран. Конкретно для России (и Украины) коммерциализация высшего образования может иметь следующие последствия. Во-первых, план преобразований предполагает, что бакалавр получает общее («базовое») образование, а специализация приобретается на уровне магистра. В ходе обучения он начинает заниматься исследовательской работой или практикой не на втором, а на пятом году обучения. То есть если человек хочет специализироваться в той или иной области, на приобретение компетентности специалиста у него остается два года. Понятно, что и 5-10 лет назад ситуация в вузах не была слишком благоприятной, но отделение ступени специального образования от ступени общей социализации это положение лишь ухудшают. По сути, новая система склоняет тех, у кого с самого начала был невысокий объем культурных ресурсов, сразу после окончания бакалавриата выходить на рынок труда. Выходить с очень своеобразной позицией: это не система сколь-нибудь конкретных трудовых навыков, которые тут же можно пустить в ход, и не тот уровень компетенции, который можно легко наращивать, продвигаясь по карьерной лестнице на рабочем месте. Вопреки официальным декларациям о возможностях постоянного самосовершенствования, о преимуществах обучения в ходе всей жизни, на практике образование перестает играть роль социального лифта для обладателей более низких стартовых позиций. Из социального лифта образовательная система превращается в социальный фильтр, и учитывая коррупционный фон в России и Украине, в наших странах последствия будут еще более острыми, чем в Европе.
Второй момент – это перекомпоновка преподавательских компетентностей и нагрузок, которая прямо не прописана в Болонской декларации, но входит в состав текущей образовательной реформы. Она меняет отношения между преподавательским корпусом и дирекцией учебного заведения: большинство полномочий вполне официально сосредоточивается в руках деканатов (а в России и Украине – куда уж больше), и преподаватель не только фактически, но и юридически превращается во временного наемного работника, подчиненного декану как главе предприятия. В России в конце 2008 г. была отменена Единая тарифная сетка, гарантировавшая преподавателям уровень зарплаты независимо от дирекции заведений. Теперь половиной бюджета зарплат распоряжается деканат. Хорошо, если декан просвещенный и готов сделать ставку на компетентных преподавателей, занимающихся современными исследованиями. А если нет — кому он отдаст эти деньги, выплатит бонусы? Совершенно очевидно, что это поле довольно опасной игры, в том числе и политической, когда деканы выступают в качестве хозяев предприятия, а ректора – назначенцы госаппарата. Преподавателям будет очень трудно выбраться из этой ловушки: есть все основания к тому, чтобы качество образования продолжило снижаться.
Еще одна опасность – манипуляции с учебными нагрузками преподавателей. До недавнего времени в России базовая нагрузка старшего преподавателя составляла около 800 часов, что вчетверо превышает аналогичный показатель в европейских вузах. К слову, умеренная учебная нагрузка — это решающее обстоятельство, благодаря которому европейские преподаватели имеют возможность вести исследовательскую работу и действительно ее ведут. В России такая нагрузка не оставляла молодым преподавателям времени для исследований и формирования интеллектуальных интересов, вынуждая их, как в школе, попросту зачитывать студентам содержание учебников и методичек. Сегодня эта и без того «драконовская» ставка в ряде вузов уже увеличена до 920 часов! По сути, осуществление всего «пакета» реформ ведет одновременно к пролетаризации преподавателей и к инфантилизации студентов, что не лучшим образом сказывается на качестве образования. Оно оказывается все более отвлеченным, не связанным ни с исследовательской работой, ни с созданием общественного блага.
Одна из ставок, на которую уже несколько лет рассчитывают российские реформаторы — сращивание исследовательских институтов Академии наук с вузами. Что отнюдь не означает предоставление преподавателям права на исследование в системе Академии, но, напротив, перевод всех исследовательских структур в вузы и подчинение их описанным правилам игры. Схожие намерения реформаторы реализуют в западноевропейских странах. Таким образом, у выпускников существенно снижаются даже формальные шансы на занятия наукой. Впрочем, это не означает, будто в Академии наук сегодня такая возможность гарантирована: она сама уже не первый год подвергается «серой» коммерциализации и близкой по духу реформе.
Наконец, нынешняя реформа высшего образования предусматривает жесткое подчинение университетов (образовательных циклов, их содержания, их длительности и т.д.) требованиям крупного бизнеса как источника рабочих мест. То, что получается в итоге, странным образом напоминает образовательную систему в СССР, претендовавшую на сугубо утилитарную функцию «кузницы кадров»: подготовку трудовых ресурсов и их рациональное распределение на производстве. Одной из проблем «рациональной» системы подготовки кадров в течение всего позднесоветского периода была, по свидетельствам самих управленцев, огромная доля работавших не по специальности. Ее можно было решить в рамках социального государства. Но что делать, когда социальная защита становится все более «тонкой» и зыбкой? Очевидно, что даже с развитием инструментов прогнозирования рынка труда, замкнуть на него работу вузов, с 3-5-летним лагом — задача столь же утопическая, как и родственные советские проекты. Гораздо более вероятен путь консервации образовательных возможностей и слабо регулируемая «низовая» коммерциализация, в ее самых неприглядных формах, которые можно было наблюдать в постсоветском контексте. Не исключено, что сплав директивно-патрональной и коммерчески-менеджериальной моделей, который мы наблюдаем в бывшей советской системе, с некоторым опозданием затронет и европейское образование, если реформаторам удастся существенно ослабить самоуправление преподавателей.
Все эти процессы подкрепляют логику «обесценивания дипломов», описанную американским социологом Рэндаллом Коллинзом еще 30 лет назад. Диплом о высшем образовании превращается из свидетельства высоких интеллектуальных заслуг и социального статуса человека в обыкновенное удостоверение минимальной социальной компетентности – наподобие паспорта или водительских прав. Дело в том, что образование уже имеет сверхмассовый характер, с обязательным средним и растущей долей высшего. Коммерциализация, по идее, рассчитана на некий потенциал роста в этом секторе. Но не достигнуты ли уже пределы? Так, в России в вузы поступает до 80% выпускников школ, а количество дипломников, согласно статистике Министерства образования, составляет 102% от количества поступивших пятью годами ранее. При отсутствии действительного интеллектуального состязания диплом из значимого социального порога превращается в минимальное условие входа на рынок труда. Это обстоятельство также работает против качества образования: оно перестает играть решающую роль. Диплом сегодня должны получить даже те, кому он не нужен и кто все равно будет вынужден переучиваться на рабочем месте первые несколько лет, возможно, с понижением квалификации.
Переламывать сложившиеся тенденции — значит радикально иначе формулировать задачи. Прежде всего, преподавателям, студентам, школьникам необходимо самим вести дискуссии о смысле и структуре образования, определять задачи собственной деятельности. Дело в том, что проект текущих реформ построен на некоторых конкурирующих моделях, заложенных в образовательную систему на более ранних этапах. Одна из них — восстановление университета как элитарного заведения (не для финансовой, а для интеллектуальной элиты) и забота о том, чтобы в его стенах процветали сильные научные школы, велись лучшие исследования и т.д. С таким элитарным университетом будут соседствовать учебные заведения другого типа, которые в гораздо большей степени ориентированы на рынок труда. В ухудшенной версии эта модель включена в планы текущих реформ, в форме фактического расслоения университетов: престижные «центры совершенства» с одной стороны и бакалаврские коллежи с другой.
Иной путь – отказ от научной функции университета и, тем самым, отказ от претензий на интеллектуальную и экономическую гегемонию. Одна из задач реформ — превратить университеты в машины по предоставлению коммерческих услуг. Этот вариант рассчитан на успех в краткосрочной перспективе, но даст весьма печальные плоды в перспективе более долговременной. При взгляде на ситуацию в российском образовании за последние 15 лет, видно, что принятые в начале 1990-х меры по дерегуляции и переводу университетов на самоокупаемость, совмещение образовательных функций с коммерческими – привели к ощутимому падению интеллектуального уровня и утраты инновационных преимуществ.
По сути, оба конкурирующих варианта включены в «пакет» реформ, и на практике предпочтение отдается, к сожалению, упрощенному второму. «Центры совершенства» могут стать местом интеллектуальных инноваций в контексте, далеком от прямолинейного коммерческого. Тогда как коммерциализировать вузы за счет увеличения платы за обучение, роста преподавательских нагрузок и усиления разницы в зарплатах кажется реформаторам более простой и быстро решаемой задачей. В результате, образовательное пространство становится не источником «большой трансформации», а местом вынужденного компромисса. Половинчатые реформы ведут к самому худшему – к снижению мотивации у всех участников и стагнации образовательной системы в целом.