Рецензия на книгу: Хелльбек Й. Революция от первого лица: дневники сталинской эпохи. М.: Новое литературное обозрение, 2017. 424 с.
Книга американского историка Йохена Хелльбека впервые была опубликована в 2006 году на английском языке в издательстве Гарвардского университета (Hellbeck 2006). Спустя более чем десять лет она появляется и на русском языке. Постсоветскому читателю профессор Хелльбек мог быть знаком по ряду журнальных статей или по книге «Сталинградская битва», вышедшей на русском в 2015 году (Хелльбек 2015). Рецензируемая работа была первой монографией Хелльбека, в которой автор рассматривает проблему субъектности в Советском Союзе в 1930-е годы. Для Хелльбека принципиально важен определенный подход к рассмотрению субъектности, который восходит к работам Мишеля Фуко. Такая концепция исследования является своеобразной реакцией на историографическую ситуацию, сложившуюся в американской науке к началу 1990-х годов.
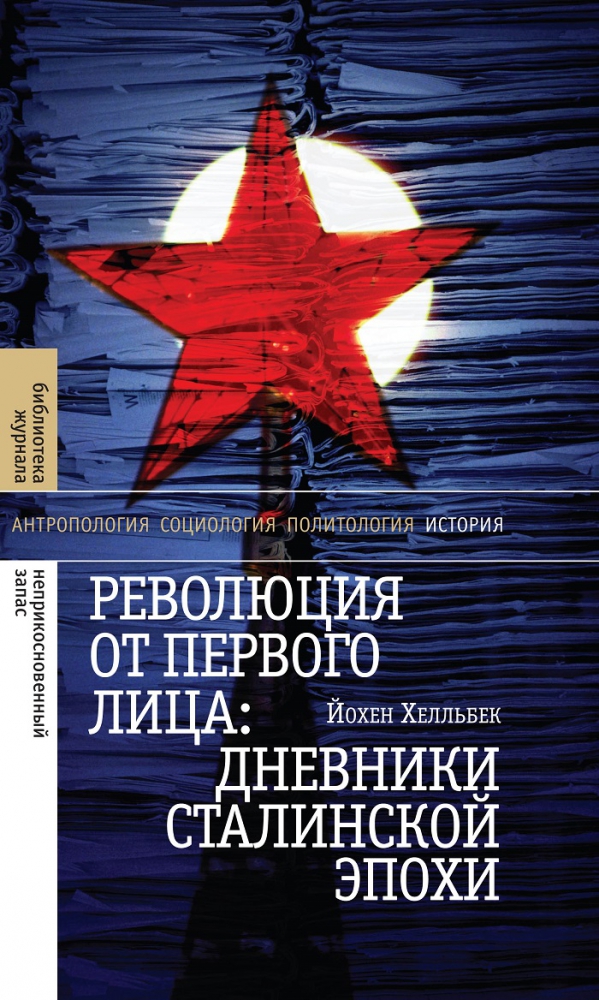 К этому моменту в англоязычной историографии советского общества существовали две больших школы: «тоталитарная» и «ревизионистская». Первая, самыми известными представителями которой были Ричард Пайпс и Мартин Малиа, полагала, что СССР, как и нацистская Германия, был тоталитарным государством, в котором не могло быть и речи о какой-либо индивидуальности или личной свободе. Личность и общество могли существовать лишь в западных либеральных демократиях, в Союзе было лишь всемогущее Государство и олицетворявшая его партия. Ревизионисты же полагали, что о полном доминировании партии в советском обществе говорить нельзя, в нем, как и в западном, существуют разные социальные группы, которые воплощают свои интересы иными способами, нежели это происходит на Западе. Применительно к 1930-м годам Шейла Фицпатрик предложила идею о «выдвиженцах», слое, состоявшем из молодых рабочих, инженеров, интеллигентов, которые видели свою выгоду в том, чтобы поддерживать советский строй (Fitzpatrick 1979).
К этому моменту в англоязычной историографии советского общества существовали две больших школы: «тоталитарная» и «ревизионистская». Первая, самыми известными представителями которой были Ричард Пайпс и Мартин Малиа, полагала, что СССР, как и нацистская Германия, был тоталитарным государством, в котором не могло быть и речи о какой-либо индивидуальности или личной свободе. Личность и общество могли существовать лишь в западных либеральных демократиях, в Союзе было лишь всемогущее Государство и олицетворявшая его партия. Ревизионисты же полагали, что о полном доминировании партии в советском обществе говорить нельзя, в нем, как и в западном, существуют разные социальные группы, которые воплощают свои интересы иными способами, нежели это происходит на Западе. Применительно к 1930-м годам Шейла Фицпатрик предложила идею о «выдвиженцах», слое, состоявшем из молодых рабочих, инженеров, интеллигентов, которые видели свою выгоду в том, чтобы поддерживать советский строй (Fitzpatrick 1979).
В результате Перестройки в самом Советском союзе западным историкам становятся доступны многие документы, которые ранее хранились в закрытых архивах. Так называемая «архивная революция» открыла перед их взором огромный пласт документ личного происхождения, таких как письма, жалобы, доносы, дневники, автобиографии и поставила вопрос о том, как работать с этими источниками. «Ревизионисты» предлагали выявить некоторый обобщенный портрет советского гражданина (Alexopoulos 2003; Fitzpatrick 2005), в то время как более молодые историки стали работать не с тем, что говорят документы о человеке, а каким языком они это делают. Одним из первых таких историков, обратившихся к изучению советского дискурса, был Стивен Коткин, написавший книгу о Магнитогорске в 1930-е годы (Kotkin 1995). Он предложил идею о том, что советское государство, создавая особый тип нелиберального модерного человека, приучало его использовать в описании себя особый язык, побуждало его «говорить по-большевистски»[1]. Коткин, сам недавний аспирант, преподавал у молодого Йохена Хелльбека и дебютом его, как историка, стала как раз критическая рецензия на «Магнитную гору», в которой Хелльбек и его соавтор Игал Халфин критиковали Коткина за то, что он неверно трактует понятие субъектности у Фуко (Halfin and Hellbeck 1996).

Йохен Хелльбек
Опора на идею Фуко о том, что любой политической режим формирует конкретный тип субъектности, нужна Хелльбеку для того, чтобы поставить сам вопрос о личности в советском контексте и уйти от традиционной интерпретации дневника. Либеральная концепция субъекта предполагает, что для индивида всегда существует деление на публичную и частную жизнь, на общественное и приватное. Перенося такую идею на историю СССР, мы предполагаем, что люди в Советском Союзе, находясь под гнетом «тоталитарного» государства, вынуждены были публично выражать поддержку режима лишь под страхом репрессий. Дневнику же они якобы доверяли свои «истинные» мысли о характере сталинизма, писали на его страницах правду, оставаясь наедине с собой. Как пишет сам Хелльбек: «Мы думаем, что личностное ядро советских граждан было качественно иным, нежели способ их «официальной» самопрезентации. Мы рассматриваем этих людей в соответствии с либеральной концепцией субъекта – как личностей, стремящихся к автономии и дорожащих своей частной жизнью как сферой свободного самоопределения. С этой точки зрения, советские граждане наверняка должны были противостоять государству, полному решимости уничтожить их независимость и приватность» (Хелльбек 2017: 17).
"в советские годы, а особенно в разбираемый им сталинский период, дневник становится популярным, массовым, если угодно демократическим жанром"
Дневник в той же либеральной трактовке – удел высокообразованных представителей творческой интеллигенции. Хелльбек опровергает и этот стереотип, указывая, что в советские годы, а особенно в разбираемый им сталинский период, дневник становится популярным, массовым, если угодно демократическим жанром. Целью ведения дневника становится не просто стремление к самоанализу, но и желание вписать себя в исторической процесс, позиционировать себя как участника грандиозного преобразования страны. Тут возникает вопрос: каково же количество дневников, насколько это и правда массовое явление? Вопрос о количестве для Хелльбека не столь важен, хотя он и оговаривается, что в 1990-е годы было опубликовано или обнаружено огромное количество дневников, но ещё больше их остается в архивах ФСБ.
Книга подразделяется на предисловие, пролог, восемь глав и справку об источниках. В каком-то смысле она распадается на две части. В прологе и первых трех главах автор анализирует проблему взаимоотношения субъекта и революционного режима, проблему воспитания сознательности в советских гражданах (глава 1), отношение большевиков к дневнику (глава 2). В третьей главе Й. Хелльбек показывает типичные тропы ведения дневников, выделяет какие-то особенности, встречающиеся от дневника к дневнику. Далее, с четвертой по седьмую главу ведется разбор дневников конкретных советских граждан – Зинаиды Денисьевской (глава 4), Степана Подлубного (глава 5), Леонида Потемкина (глава 6) и Александра Афиногенова (глава 7). В восьмой главе даются основные выводы книги.
В прологе разбирается основная идея книги о том, что сталинские субъекты вели дневник не для того, чтобы скрыть свои мысли от партии, а с целью самопреобразования и чтобы осмыслить себя как часть большого советского коллектива. В данном контексте понятие «субъект» Хелльбек заимствует у М. Фуко, и в качестве аналитической категории он не является аналогом индивида или личности. Хелльбека волнует прежде всего то, как человек, взаимодействуя с идеологией, формирует себя как субъекта с определенными характеристиками. «Идеологию лучше понимать не как заданный, фиксированный и монологичный корпус текстов в смысле «идеологии Коммунистической партии», а как фермент, действующий в людях и, в ходе взаимодействия с субъективной жизнью конкретной личности, приводящий к весьма разнообразным результатам. Человек здесь выступает в роли своеобразного операционного центра, в котором идеология распаковывается и персонализируется, в процессе чего индивид переделывает себя в субъекта с определенными и осмысленными биографическими чертами» (Хелльбек 2017: 29). Чуть выше Хелльбек говорит о том, что быть субъектом со времен Нового времени означает воспринимать себя не как игрушку судьбы, но как индивида в развитии, делающего осознанный выбор.
Советские субъекты, по мысли Хелльбека, должны были построить свою жизнь сознательно, должны были в ходе социалистического строительства стать «новыми людьми». Сознательность в советском ключе означала и другой важный аспект – коллективизм. Невозможно быть сознательным гражданином нового общества, если ты не преодолел свою индивидуальность, не согласовал ее с коллективом, ведь только совместно возможно строить социализм. Буржуазная атомизация общества должна была быть преодолена. Сознательность – одна из ключевых метафор как книги Хелльбека, так и его героев. Сознательное движение от тьмы к свету, от стихийности к сознательности пронизывало всю риторику коммунистического режима. Большевики не просто «изобрели» сознательность, они восприняли образ сознательной жизни революционера из культуры императорской России второй половины XIX столетия, прежде всего, из романа Н. Г. Чернышевского «Что делать». Революция 1917 года для многих, в том числе и не большевиков, стала моментом пробуждения к сознательной жизни. В качестве примера Й. Хелльбек приводит дневник советского писателя Дмитрия Фурманова, автора знаменитой повести о Чапаеве (Хелльбек 2017: 32-39). Описывая ситуацию революции, Хелльбек не приводит примеры «небольшевистской» сознательности, не показывает, играла ли сознательность столь важную роль среди других социал-демократов или же в партии социалистов-революционеров. Если не только будущие большевики воспитывались на романе Чернышевского, то что стало с другими нарративами сознательности после 1917 года.
Сознательность Хелльбек анализирует не просто как моральную или этическую категорию, но как понятие, подразумевающее и определенный комплекс практик. Для обретения сознательности миллионы советских граждан должны прежде всего выучиться читать и писать и обратно – они должны обучиться грамоте именно для того, чтобы сознательно участвовать в политической жизни революционной страны (Хелльбек 2017: 41-43). В ситуации, когда значительная часть населения не умеет читать и писать, встает вопрос о способах передачи революционной сознательности. Главным медиумом в таком случае будет выступать устная речь и Хелльбек оставляет открытым вопрос о том, как ретранслировалась сознательность от уже осознавших себя большевиками к несознательным членам общества.
Переходя от революции и Гражданской войны к эпохе НЭПа, Хелльбек трактует 1920-е гг. как эпоху противостояния большевистской сознательности и «мелкобуржуазной стихии», воплощенной в лице новой буржуазии и крестьянства, а также как время торжества обезличенных масс над индивидуальностью. Большевики в изложении автора предстают несколько обобщенно: они все испытывают страх перед ужасами НЭПа, перед возможным проникновением в партию «контрреволюционеров» и «мелкобуржуазных элементов». В таком упрощении опускается специфика внутрипартийных дискуссий 1920-х годов, во время которых обвинения в «мелкобуржуазности» или «недооценке» крестьянства служили инструментом политического самоопределения для различных внутрипартийных групп, а использование одной и той же терминологии внутри партии всегда стоит рассматривать в контексте: Сталин или Троцкий могли придавать довольно разное значение термину «мелкобуржуазность». К тому же, 1920-е гг. в изображении Хелльбека становятся довольно статичными, это словно лишь промежуток между революцией 1917 года и сталинской революцией начала 1930-х гг. Разумеется, автора книги больше интересуют 1930-е гг., но нельзя согласиться с такой однозначной трактовкой НЭПа.
Другой аспект – это восприятие личности и индивида в 1920-е и в 1930-е гг. Хелльбек полагает, что в годы НЭПа господствовало представление о человеке как о машине, лишенной души. Такое представление было довольно распространенным, но таким ли доминирующим в культуре, которая состояла из множества подчас диаметрально противоположных течений и направлений? Дзига Вертов и Алексей Гастев, как авангардисты, ратовали за полностью «машинизированного» человека, но разделялось ли их представление всеми большевиками? Остается вопрос и о том, насколько влиятелен был авангард в пестрой культуре 1920-х годов и не является ли более поздняя мода на него причиной переоценки его влияния. Эпоха сталинизма ознаменовалась новым восприятием индивида, на смену авангарду приходит романтизм, на смену обезличенному коллективизму приходит идеал гармонично развитого человека, который является подлинным гражданином социалистического общества. Хелльбек не единственный, кто отмечает сходство сталинизма с романтизмом, Катерина Кларк проводит схожую параллель (Clark 2011).
Вторая глава книги, «Большевистские взгляды на дневник», посвящена разбору отношения коммунистической партии к практикам ведения дневника. В центр данной главы Й. Хелльбек помещает сравнение дневника советского с дневником пуританским, проводя параллель между большевизмом и Реформацией. Здесь возникает вопрос, хочет ли автор уподоблять коммунизм религии и каково соотношение религиозного и политического в пуританском движении. Пуритане были нацелены не только на личное спасение, но и на переустройство общества на более справедливых началах, хотя и пользовались для этого языком религии, а не политики. Большевики же опирались на научное понимание современного им общества, а не только верили в конечную победу социализма на всей планете.
Глава, однако, посвящена не параллелям между большевизмом и религией, а отношению большевиков к дневникам. Как это ни удивительно, в главе нет практически ни одного большевика, сообщающего о своем отношении к подобной практике. Хелльбек приводит рассуждения педологов и психологов о роли дневника в развитии личности, цитирует авангардных писателей из ЛЕФа, которые, пропагандируя «литературу факта»[2], противопоставляли документальное повествование (в том числе и дневник) «буржуазному роману» (Хелльбек 2017: 63-64). Далее автор останавливается на интересном сюжете – ведении производственных дневников во время строительства московского метро. Данные дневники должны были стать частью большого проекта «История фабрик и заводов», осуществлявшегося Максимом Горьким. Как показывает Хелльбек, дневники были не просто способом анализа рабочими своего я, но должны были служить средством саморазвития в контексте выполнения производственных задач. Однако, дневники были признаны редколлегией «Истории фабрик и заводов» неудачными, поскольку не произошло автоматического совпадения между выполнением плана и ростом политической сознательности (Хелльбек 2017: 64-66).
 Строительство московского метро
Строительство московского метро
Если пролетарии не столь преуспели в ведении дневников, то возможно, в этом оказались более успешны коммунисты? В главе, тем не менее, не приводится примеров ведения дневников членами партии за исключением Борис Козелева, одного из соратников профсоюзного лидера Михаила Томского и убийцы С. М. Кирова Александра Николаева. Оба дневника были использованы против их авторов как свидетельство их «контрреволюционности». Дневник мог быть опасен, если свидетельствовал против своего владельца, раскрывая его тайные мысли. Коммунисты, как утверждает Хелльбек, считали дневник опасным и в том случае, если он ведется в отрыве от коллектива и служит лишь самоанализу, самокопанию и воспитывает в авторе буржуазного субъекта. Однако, в подтверждение этой гипотезы Хелльбек приводит фактически лишь одно негативное высказывание комсомольского активиста, относящееся к середине 1930-х гг. (Хелльбек 2017: 70).
"большевизм предстает в изложении Хелльбека поразительно гомогенным явлением, при том что собственно голосов большевиков, их позиции по поводу дневников в главе так и не слышно"
Тождествен ли комсомолец или писатели-авангардисты большевизму? Й. Хелльбек слишком обобщенно и расширительно трактует большевизм. Глава, которая судя по названию, могла бы раскрыть читателю воззрения идеологов коммунистической партии на дневник, приравнивает педологов, писателей, журналистов, комсомольцев к большевикам, превращая «большевизм» в синоним всего советского режима. Это напоминает подход «тоталитарной школы», которая тоже говорила о «большевистской революции», сводя все многообразие советского опыта к доминированию одной политической силы. Да и сам большевизм предстает в изложении Хелльбека поразительно гомогенным явлением, при том что собственно голосов большевиков, их позиции по поводу дневников в главе так и не слышно.
Третья глава в русском переводе названа «Лаборатории сознания», хотя в английском оригинале речь идет скорее о душе (soul) (Hellbeck 2006: 53-115). Глава посвящена разбору основных тропов и сюжетов, затрагивавшихся в дневниках, созданных в 1930-е годы. Первым из сюжетов дневников было восприятие времени советскими гражданами, попытка выстроить взаимосвязь с событиями в стране. «Не сводясь к простой фиксации событий, дневник часто решал дополнительную задачу: вписать автора в эпоху, начать диалог между Я и эпохой в исторических категориях и, таким образом, вывести собственное Я на уровень субъекта истории», — пишет Хелльбек (Хелльбек 2017: 79). Причем такое понимание субъектности было характерно не только для сторонников советской власти, но и для тех ее противников, кто вел дневник с целью фиксации «правды» о сталинском терроре или стремился разоблачить советский режим.
Не все авторы дневников 1930-х годов стремились участвовать в преображении жизни, затеянном большевиками. Хелльбек приводит как минимум два примера дневников, в которых этого не происходит: Евдоким Николаев, рабочий-кадет, в своем дневнике представлял дореволюционную Россию, в противовес советской, царством изобилия и благополучия, а крестьянин из Московской области Игнат Фролов фиксировал в своем дневнике лишь природные события, смену времен года, урожаи и т.д. Такая позиция, по мнению автора книги, приводила к «само-маргинализации» и потому такие дневники были редкостью. Желание быть частью советского коллектива было столь сильным в 1930-е годы, что даже вернувшийся в 1935 году в Москву известный эмигрант Николай Устрялов желал стать полноправным членом общества (Хелльбек 2017: 89-90).
Другим важнейшим мотивом дневников в 1930-е годы был вопрос о природе собственного Я. Хелльбек пишет о том, что для рабочего и для интеллигента эта проблема разрешалась по-разному: рабочий, как представитель угнетенных классов, выстраивал нарратив о возникновении субъектности там, где ее не могло быть в силу эксплуатации. Преодоление же последней осуществлялось не только в экономическом смысле, но и в плане построения новой личности. Для интеллигента собственное Я было проблематичным: часто имевшие «буржуазное происхождение» представители интеллигенции должны были «перестроить» свое Я в согласии с социалистическим коллективом. Дневник для них становился орудием своеобразной перековки. Необходимость преодолеть «буржуазные предрассудки» проявлялась и в отношении к текущему советскому строю: нужно было объяснить себе проблемы и противоречия в построении социализма так, чтобы это согласовывалось с марксистской теорией.
В этой же главе Хелльбек ставит под вопрос либеральное представление о приватности, говоря, что простое перенесение этого понятия на советский опыт приводит к неадекватной трактовке проблемы соотношения личного и общественного применительно к разбираемым им дневникам. Приватное не противостояло публичному в сталинском обществе, развитие личности мыслилось в гармонии с коллективом, но при этом советский гражданин должен был совмещать и достижения в общественной сфере, и успехи в личной жизни. Такое требование к гармонии заставляло героев дневников постоянно согласовывать свое личное развитие с ходом построения социализма в стране, порождало желание быть частью коллектива и вызывало болезненные переживания в случае кажущейся или действительной из него исключенности.
Четыре следующих главы книги посвящены разбору четырех дневников, в каждом из которых их автору так и не удалось достичь гармонии между своей личностью и советским коллективом. Из четырех персонажей самый известный, пожалуй, Александр Афиногенов, имена трех других – Зинаиды Денисьевской, Степана Подлубного и Леонида Потемкина вряд ли что-то скажут незнакомому с книгой читателю.
Дневник Зинаиды Денисьевской, которому посвящена глава 4 труда Хелльбека, освещает тридцать три года жизни (с 1900 по 1933 год) провинциальной учительницы из Воронежской губернии. Объем дневника – 5 623 страницы, Денисьевская стала вести его задолго до революции и довела до эпохи первой пятилетки и голода 1932 – 1933 годов. Подобный источник позволяет Хелльбеку проследить важный процесс трансформации субъектности представительницы русской интеллигенции начала XX столетия. Удача этого источника ещё и в том, что Денисьевская не поддерживала большевиков в 1917 и в годы Гражданской войны, но перешла на позиции поддержки советского строя лишь в 1929 году. Хелльбек отмечает, что двумя важнейшими мотивами на протяжении всего дневника было стремление Денисьевской стать идеальной личностью и мотив одиночества. Первый мотив Хелльбек описывает как присущий всей русской интеллигенции той эпохи. Вопрос об одиночестве был связан с вопросом об отношении к мужчинам и к собственной сексуальности. Денисьевская, как и все русское общество после 1905 года, активно интересовалась вопросом об отношениях между полами (Хелльбек 2017: 152-154). Лора Энгельштейн связывает активизацию обсуждения вопросов сексуальности и пола после 1905 года с одной стороны, с общим мировоззренческим кризисом, наступившим после поражения первой русской революции, а с другой стороны, с ослаблением цензуры, которое способствовало расцвету бульварной литературы. Сказалась здесь и растущая мода на психоанализ, для которого вопрос о сексуальности являлся одним из ключевых в понимании личности человека. Под влиянием этих факторов сформировалось новое представление об отношениях между полами, которое подразумевало не только любовь, как чувство, но и плотские влечения (Engelstein 1992). Денисьевская не готова была принять такой формат отношений между женщинами и мужчинами и предпочла одиночество, обоснование которому она нашла в концепции «новой женщины», предложенной Александрой Коллонтай, которая предполагала, что эмансипированная женщина больше не зависит от мужчины и в каком-то смысле обречена в результате этого на одиночество (Хелльбек 2017: 156-157).

Не приняв советскую власть, Денисьевская в тоже время осуждала и ту часть интеллигенции, которая была настроена антибольшевистски. Ко второй половине 1920-х гг. Денисьевская и вовсе перейдет на позицию поддержки режима. Хелльбек объясняет это тем, что она увидела в социалистическом проекте возможность преодоления личного одиночества через приобщение к коллективу, «Денисьевская построила себе новый дом в здании социалистической субъектности. Социалистическая субъектность означала разное для разных людей; Денисьевскую она привлекала обещанием большой жизни в сообществе, наполненном теплом, любовью и чувством принадлежности, облегчавшим ее личное одиночество» (Хелльбек 2017: 165). Советский проект оказался настолько притягателен для Денисьевской, что она внутренне приняла даже необходимость террора против своих коллег-агрономов, объясняя это тем, что те так и не смогли перестроить свое Я в интересах социалистического государства и остались старыми «буржуазными специалистами». Такая трактовка Хелльбеком восприятия террора серьезно отличается от концепций, которые представляют советских людей либо как бессловесную запуганную массу, либо как циничных дельцов, ищущих в терроре личную выгоду.
Интеллигенция выглядела проблемной с точки зрения большевистской идеологии. Она была носительницей буржуазной культуры, но в тоже время могла применить свои знания и культурность на пользу советскому обществу. Гораздо более проблематичным представляется положение людей, причисленных к классовым врагам советского режима. Для начала 1930-х гг. существовало две основных категории «классовых врагов»: «кулаки» и «бывшие». Герой пятой главы книги Хелльбека, Степан Подлубный был сыном кулака из Украины, эмигрировавшим в Москву и пытавшимся стать образцовым пролетарием и комсомольцем. Его дневник для Хелльбека показывает проблему включения в социалистический проект таких людей как Подлубный и амбивалентность государства по отношению к ним. С одной стороны, Подлубный был классовым врагом, сыном кулака. С другой, его текущее пролетарское социальное положение давало ему потенциальную возможность стать полноправным членом советского общества, ведь говоря словами Сталина «сын за отца не отвечает». Хелльбек видит основное напряжение дневника Подлубного в том, что Степан стремится быть комсомольцем и пролетарием, активным гражданином, успешным в труде и растущим культурно, этаким новым горожанином. В связи с этим Хелльбек отмечает несколько высокомерное отношение Подлубного к другим выходцам из крестьян, встречаемых им в Москве, которых Подлубный характеризует как «отсталых». В русле этого же стремления обрести новую субъектность лежит и негативное отношение Степана к репрессированному отцу, который в дневнике изображается «грубым» и в сущности чужим для него человеком.
Однако скрываемая тайна своего происхождения приводит Подлубного к другой проблеме: его дневник носит тайный характер, Степан вынужден скрывать его от других людей. Дневник, который должен служить цели переустройства Я, становится для Подлубного хранилищем «душевных помоев». Подлубный, ведущий двойную жизнь, становится информантом НКВД и доносит на некоторых знакомых ему комсомольцев. Отношению к террору у Подлубного столь же двойственно: они с матерью живут в страхе ареста, но узнав о голоде в родной деревне в 1933 г., Подлубный с жестокостью замечает о том, что слабые, видимо, обречены погибнуть, пока строится новое общество. Такие противоречия в нарративе опять же не укладываются в традиционную либеральную оппозицию «палач – жертва», в которой первые предстают бесчеловечными кровопийцами, а вторые – агнцами. Как показывает Хелльбек, эти позиции подвижны, информант НКВД Подлубный был в итоге все же арестован, и в последствии, как замечает историк, Подлубный выбрал для себя репрезентацию в качестве жертвы сталинизма. Именно так его дневник попал в «Народный архив», где и был обнаружен Хелльбеком в 1990 году.
Герой шестой главы книги – Леонид Потемкин – относится к слою «выдвиженцев», людей, которые будучи выходцами из рабочих или крестьян, в 1930-е гг. сумели занять высокие посты в промышленности, государственном аппарате, науке. В англоязычной историографии «ревизионистской школы» принято рассматривать их как социальную опору сталинизма, группу, получившую определенную выгоду от репрессий, которые сделали «вакантными» целый ряд должностей и ускорили социальную мобильность «выдвиженцев» (Fitzpatrick 1979). Й. Хелльбек через обращение к дневнику Потемкина ставит задачу изучить субъективный мир одного из представителей этой группы. Хелльбек показывает, что Потемкина, как выдвиженца, интересовали не только карьера и материальные блага, им двигало стремление сделать из себя нового человека. Потемкин, имевший в отличие от Денисьевской и Подлубного безупречное пролетарское происхождение, стремился не к приобщению к рабочему классу, а к тому, чтобы стать интеллигентом. Новый человек на страницах дневника Потемкина предстает по-разному. В раннем дневнике начала 1930-х годов Хелльбек выделяет у Потемкина мотив «слабой личности» и противостоящего ей здорового общества – Потемкин должен преодолеть индивидуализм, чтобы стать полноценным членом коллектива.
К середине 1930-х гг. Хелльбек отмечает изменение в нарративе Потемкина – в дневнике находится место для описаний походов в театр, увлечения музыкой, литературой, появляются любовные истории. Хелльбек относит это не только к изменениям в личности самого Потемкина, но и к перемене в отношении к личности в обществе. Сталинский субъект отныне характеризуется не только через неустанную классовую борьбу, теперь он получил время и на индивидуальное развитие. Хелльбек утверждает, что Потемкин идет даже дальше большевистских идеологов и пытается воплотить совершенного социалистического человека непосредственно в себе, преодолеть зазор между тем, что есть, и тем, что должно быть. Для нового человека легитимным чувством была любовь, но направленная не столько на конкретного индивида, сколько на коллектив, на все советское общество. Новый человек не мог развиваться в одиночестве – и Потемкин в 1934 году вступает в комсомол и воспитывает себя как общественного активиста и руководителя. Однако даже Потемкин, столь внешне успешный на пути сотворения себя в качестве нового человека не смог достичь своего идеала. Хелльбек говорит в данном случае об «утопической меланхолии» — неспособности советского субъекта достичь состояния идеального коммунистического человека и испытываемым в связи с этой невозможностью разочарованием (Хелльбек 2017: 313).
 Случай Потемкина показывает, как должен был вести себя идеальный советский субъект. Последний из четырех дневников, которые разбирает Хелльбек, принадлежал человеку, который по самому своему призванию должен был не только сам быть этой идеальной новой личностью, но и быть «инженером человеческих душ». Речь идет о дневнике Александра Афиногенова, советского драматурга, слава которого пришлась на 1930-е годы. Дневник для Афиногенова, как замечает Хелльбек, был в основном черновиком, откуда драматург черпал материалы для своих будущих пьес и заносил в него наблюдения за окружающей действительностью: разговоры с коллегами, впечатления от природы (Хелльбек 2017: 340). Именно поэтому большая часть дневника дошла до нас в виде разрозненных записей без дат: Афиногенов сам вырезал куски дневника и компоновал их в произвольном порядке. В полном объеме дневник сохранился за 1937 год, когда писатель был исключен из партии и из Союза писателей, и в ожидании ареста вел затворнический образ жизни на своей даче в Переделкино. Тогда же Афиногенов начал вести дневник, стремясь объяснить происходящие с ним события и перестроить свою внутреннюю сущность.
Случай Потемкина показывает, как должен был вести себя идеальный советский субъект. Последний из четырех дневников, которые разбирает Хелльбек, принадлежал человеку, который по самому своему призванию должен был не только сам быть этой идеальной новой личностью, но и быть «инженером человеческих душ». Речь идет о дневнике Александра Афиногенова, советского драматурга, слава которого пришлась на 1930-е годы. Дневник для Афиногенова, как замечает Хелльбек, был в основном черновиком, откуда драматург черпал материалы для своих будущих пьес и заносил в него наблюдения за окружающей действительностью: разговоры с коллегами, впечатления от природы (Хелльбек 2017: 340). Именно поэтому большая часть дневника дошла до нас в виде разрозненных записей без дат: Афиногенов сам вырезал куски дневника и компоновал их в произвольном порядке. В полном объеме дневник сохранился за 1937 год, когда писатель был исключен из партии и из Союза писателей, и в ожидании ареста вел затворнический образ жизни на своей даче в Переделкино. Тогда же Афиногенов начал вести дневник, стремясь объяснить происходящие с ним события и перестроить свою внутреннюю сущность.
Наиболее поразительным в этом отношении является фрагмент дневника, где Афиногенов, воображая свой арест, ведет мысленный диалог со следователем, который в его дневнике фигурирует под названием «Протокол допроса». В воображении драматурга следователь НКВД являлся олицетворением готовности Афиногенова «разоружиться» перед партией и советским государством. Партия проходила чистку и через такое же очищение должен был пройти Афиногенов, чтобы доказать свое право быть активным строителем нового общества. В «Протоколе допроса» приводится и сцена обсуждения Афиногеновым и следователем проблемы искренности в дневнике драматурга.
Следователь. Запискам вашим я не верю.
Я. Я и это знал.
Следователь. Почему?
Я. Потому что, раз человек ждет ареста и ведет записки – ясно надо думать, он ведет их для будущего читателя – следователя и значит там уже и приукрашивает все, как только может, чтобы себя обелить… А прошлые записки, за прошлые годы – так сказать «редактирует» – исправляет, вырезает, вычеркивает… Ведь так вы подумали?
Следователь. Так. (Хелльбек 2017: 377)
На страницах своего дневника Афиногенов пытался проанализировать собственную субъектность в категориях искренности, чистоты и верности советскому проекту. Помимо «Протокола допроса» Афиногенов в это же время задумывает роман «Три года», посвященный кампании чисток, в котором главный герой возвращается в Москву в момент, когда его друзья были уверены, что этот человек находиться в ссылке. Как замечает Хелльбек: «Афиногенова никто не принуждал подчиниться законам истории, провозглашенным советскими вождями. Он сам активно создавал для себя «жизнь в истории» как высшую форму самореализации. И все же при советском строе даже идеальная субъектность, к которой стремился Афиногенов, не выходила за рамки объектного отношения к Сталину, являвшемуся окончательным субъектом истории. Это объясняет, почему Афиногенов (как и другие коммунисты) соглашался с перспективой быть уничтоженным партией и оказаться на свалке истории: этот акт, казалось бы, чистого саморазрушения способствовал осуществлению исторических предначертаний, а стало быть, достижению основной цели, которой он – как субъект – посвятил всю свою жизнь» (Хелльбек 2017: 374).
Представленные в книге дневники служат цели раскрыть определенный тип взаимоотношений государства и субъекта. В этих взаимоотношениях обе стороны играют важную роль. Советское государство как модерный политический режим (Дэвид-Фокс 2016) использует массовое участие своих граждан в жизни общества: во всех странах межвоенной Европы проходят выборы, существуют партии, словом все те элементы политической жизни, которые мы считаем современными. В свою очередь это требует от субъекта быть активным участником этих политических процессов. Советский Союз предлагает вариант политического участия, построенный на принципах сознательности. Такой принцип требует от субъекта не просто участия, но осознания того, что в сталинском социализме воплотилось наилучшее устройство общества из возможных. Большевизм воплощает объективную историческую истину. Хелльбек показывает, что в рамках такого режима субъект противопоставлялся не просто государству, а сталкивался лицом к лицу с историческим процессом построения социалистического общества.
Субъекты, о которых речь идет в работе Хелльбека, изначально не хотели и не были готовы противостоять этим историческим тенденциям. Кто-то, как Зинаида Денисьевская, принадлежал к той части российского общества, которая поддерживала революционные преобразования еще до 1917 года и тем самым видела в большевиках продолжателей дела поколений интеллигенции, боровшихся с царским режимом. Другие, как Леонид Потемкин или Александр Афиногенов полностью связывали свое нынешнее положение с советским строем. Потемкин полагал, что советская власть поспособствовала тому, что он и миллионы молодых людей и девушек его поколения смогли получить образование и сделать карьеру. Они воспринимали искренне программу «перековки» себя в нового идеального человека. Драматург Александр Афиногенов готов был пойти дальше Потемкина и подвергнуть «чистке» свою внутреннюю сущность, которая пришла в противоречие с объективным ходом исторического развития.
Даже Степан Подлубный, который вел двойную жизнь и раскрывал всю правду о себе только дневнику, не ограничивался лишь фиксацией сокровенных мыслей, но также использовал ведение дневника для переделки себя. Хелльбек убедительно показывает, что либеральные представление о роли и месте дневника, представления об искренности, приватности и публичности, любви являются историчными и меняют свое содержание в зависимости от конкретных обстоятельств.
Тем не менее, можно заметить, что источники в книге создают довольно стройную и цельную картину граждан, которые попали под очарование большевистского революционного проекта и не готовы были быть в оппозиции к нему. Однако это порождает вопрос о тотальности большевистского дискурса в Советском Союзе. Могли ли существовать антибольшевистские или антисоветские варианты конструирования субъектности? Хелльбек совсем не затрагивает вопроса о религии, с влиянием которой большевики активно боролись в 1920-е гг. и особенно интенсивно как раз в годы первых пятилеток. Антирелигиозная кампания вполне могла актуализировать приверженность к религиозной самоидентификации. Хелльбек приводит один пример рабочего-кадета, который восхвалял царскую Россию в противовес советской, но, вероятно, были и другие дневники, которые освещают такой же тип субъектности. Совершенно обходит Хелльбек вопрос о национальной политике советского государства. Непонятно, например, отрицал ли Подлубный не только свое кулацкое, но и украинское происхождение. Он активно учил русский язык и вполне возможно, что вместе с обретением пролетарской идентичности обретал и русскую.
Хелльбек замечает, что в последствии все тот же Подлубный пытался презентовать себя именно как жертву сталинизма, но не слишком много внимания уделяет вопросу о том, а что же стало в итоге со сталинской субъектностью. Он лишь кратко упоминает, что после 1945 года война заняла место революции в построении нарратива самоописания: стало важнее, воевал ли человек, чем то, как активно он участвовал в социалистическом строительстве. Однако, такое утверждение требует осторожности, ведь после войны советское общество активно включилось в восстановление экономики и хозяйства. Послевоенное восстановление может быть вполне соотнесено по масштабам с периодом первых пятилеток. Какой тип субъектности мог быть задействован в этом случае?
Картина, которую рисует Хелльбек, получается довольно мрачной: советский субъект оказывается под мощнейшим давлением большевистской идеологии, которая обещая ему избавление от эксплуатации, обрекает его на еще большие экзистенциальные трудности, связанные с невозможностью стать идеальным субъектом. Однако в этом, по Хелльбеку, кроется и возможность для субъекта сформировать себя. Большевизм не только прибегает к террору, но и дает советским гражданам массу возможностей сотворить свое собственное Я.
Ссылки
Дэвид-Фокс М., 2016. Модерность в России и СССР: отсутствующая, общая, альтернативная или переплетенная? В: Новое литературное обозрение. № 140. Дата обращения: 04.10.2016 по адресу: [link].
Хелльбек Й. (отв. ред.), 2015. Сталинградская битва: свидетельства участников и очевидцев. М.: Новое литературное обозрение.
Хелльбек Й. 2017. Революция от первого лица:дневники сталинской эпохи. М: Новое литературное обозрение.
Alexopoulos G., 2003. Stalin’s Outcasts: Aliens, Citizens, and the Soviet State, 1926–1936. Cornell University Press.
Clark K., 2011. Moscow, the Fourth Rome: Stalinism, Cosmopolitanism, and the Evolution of Soviet Culture, 1931–1941. Harvard University Press.
Engelstein L., 1992. The Keys to Happiness: Sex and the Search for Modernity in Fin-de-Siecle Russia. Ithaca, N.Y.; London: Cornell University Press.
Fitzpatrick S., 1979. Education and Social Mobility in the Soviet Union, 1921–1934. Cambridge; New York; Melbourne: Cambridge University Press.
Fitzpatrick S., 2005. Tear off the Masks! Identity and Imposture in Twentieth-Century Russia. – Princeton, N.J.; Oxford.
Halfin I. and Hellbeck J., 1996. "Rethinking the Stalinist Subject: Stephen Kotkin's "Magnetic Mountain" and the State of Soviet Historical Studies". In: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas Neue Folge, pp. 456-463
Hellbeck, J., 2006. Revolution on My Mind: Writing a Diary under Stalin. Cambridge, Mass.; London: Harvard University Press.
Kotkin S., 1995. Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization. Berkeley: University of California Press.
Papazian E. A., 2009. Manufacturing Truth: the Documentary Moment in Early Soviet Culture. DeKalb: Northern Illinois University Press.
Примечания
1. Так называется пятая глава «Магнитной горы»: Speaking Bolshevik (Kotkin 1995: 198–238). ↩
2. О литературе факта: Papazian 2009. ↩
