О сколько нам открытий чудных
Готовит Просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг
(А. С. Пушкин)
Приведённые пушкинские строки были написаны почти 200 лет — и всё равно остаются удивительно актуальными не только в области научной лирики, но и в политической сфере: здесь бок о бок по‑прежнему шествуют не только открытия с опытом, но и ошибки с сюрпризами. Правда, двадцать первый век, даровавший нам, по мнению многих, невиданную степень информационной свободы, всё чаще оборачивается не столько незамутненной гениальностью, сколько откровенными парадоксами
Так, научно-технический прогресс, воплощенный интернетом, электрокарами Tesla и новыми формами энергетики, всё же не вылился в реализацию фантастических грёз, знакомых нам по произведениям Рэя Брэдбери, Ларри Нивена или братьев Стругацких. Почти безграничные возможности по сбору информации обернулись тиранией плагиата и той «пост‑правды» 1, что стала словом прошлого года по версии Оксфордского словаря. Лицом экономического роста стали расслоение и поражающая воображение нищета. Словом, будто в скверном фильме Wishmaster, мы оказались пленниками собственных представлений о сущем, рабами созданной нами реальности — и, как полагал герой Уолтера Келли, «мы нашли своего врага, и он — это мы сами».
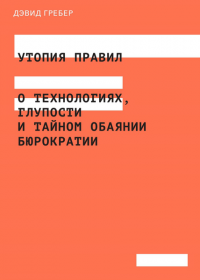 О многом из этого в своей новой книге и пишет Дэвид Гребер, антрополог, анархист и предполагаемый автор лозунга «Мы — 99%». Его «Утопия правил» — трактат, несмотря на меньший объём, ничуть не менее амбициозный, чем нашумевший бестселлер «Долг: первые 5000 лет истории», ведь посвящён он бюрократии — явлению почти тотальному и одновременно столь обманчиво ясному, что его содержание нами зачастую даже не осмысливается.
О многом из этого в своей новой книге и пишет Дэвид Гребер, антрополог, анархист и предполагаемый автор лозунга «Мы — 99%». Его «Утопия правил» — трактат, несмотря на меньший объём, ничуть не менее амбициозный, чем нашумевший бестселлер «Долг: первые 5000 лет истории», ведь посвящён он бюрократии — явлению почти тотальному и одновременно столь обманчиво ясному, что его содержание нами зачастую даже не осмысливается.
Первый тезис Гребера одновременно и прост, и крайне важен: современная бюрократия должна относиться нами не только и не столько к государству, сколько к рыночным и корпоративным механизмам, которые мы по неизвестной причине считаем альтернативой чиновничьему диктату. Иллюстрируя это многочисленными примерами из собственной жизни, Гребер показывает, что огромное бремя правил, наваливающееся на человека каждый день, не рудимент одряхлевших казённых империй, а прямое порождение капитализма с его «вращающимися дверьми» и общими интересами политиков и бизнесменов. Каждая административная реформа оборачивается приумножением бюрократии; каждая приватизация лишь увеличивает число правил, которым приходится подчиняться.
«У этого процесса постепенного слияния государственной и частной власти в единое целое, который порождает ворох правил и предписаний, создаваемых с целью извлечения богатства в виде прибыли, пока ещё даже нет названия» («Утопия правил», с. 19).
Бюрократия, продолжает Гребер, обладает ещё тремя ключевыми чертами. Во‑первых, она основана на насилии и, по сути, представляет собой не что иное, как закреплённый в обществе порядок структурного насилия: «Когда кто‑либо начинает говорить о “свободном рынке”, то неплохо бы оглянуться и посмотреть, нет ли рядом человека с ружьем» (с. 32). Более того, это насилие тем прочнее, что оно редко ассоциируется с прямым физическим действием, и именно потому является структурным: бюрократия есть лишь фиксация «всепроникающего социального неравенства, в конечном счете подкрепляемого угрозой нанесения физического вреда», и мы не связываем бюрократические предписания с непосредственной агрессией лишь потому, что пытаемся забыть о подобных корнях бюрократии.
То, что она кажется нам нейтральными общими правилами, – вторая ложь, и ложь фундаментальная: мы выбираем бюрократические системы, надеясь на выгодное всем упрощение правил игры, но оборачивается это ровно противоположным результатом. В основе популярности бюрократии, по мнению Гребера, лежит именно ее схожесть с механизмами игры: и там, и там вроде бы есть некие общие и притом ясные правила, следуя которым, возможно достигнуть конкретного результата – что выгодно отличает и игру, и бюрократию от обычной жизни с ее двусмысленностью. Тем не менее, такая картина в случае административных процедур является именно «утопией правил»: игра здесь оборачивается скорее бесконечным обсуждением имеющихся тонкостей, деталей и соответствия предписаний, в котором инструкции окончательно побеждают свободу человеческого воображения создавать новые формы общежития и взаимодействия. Игра, делает Гребер общее замечание, рождается из баловства, из забавы (поэтому в оригинале автор разводит понятия play, «забава», и game, «игра») – обретая форму, последняя и становится игрой. Бюрократия же, будучи уже созданной как некая идеальная «игра», не может генерировать новые игры – она может лишь умножать условности имеющегося порядка. Гребер дополняет это сильным замечанием о том, как перестали сбываться уже упомянутые прогнозы фантастов, – причина этого в том, что поэтическим технологиям (порядок‑для‑чего‑то) пришли на смену технологии узко бюрократические (порядок‑для‑себя). В итоге прогресс совершенствуют лишь инструменты контроля над обществом, а искусство порождает господство реакционных идеалов – таких, как супергерои, вечно спасающие status quo, но не делающие ничего, чтобы исправить или усовершенствовать его. По сути, наши личные претензии к бюрократии (в случае их наличия, а есть они практически всегда) имеют ровно такую же природу – никто не может объяснить, какой смысл имеет некое правило, но оно всё равно должно соблюдаться.
«Герои совершенно реакционны (…) Супергерои почти никогда не создают и ничего не строят (…) Они остаются защитниками порядка, который взялся словно из ниоткуда и который, каким бы несовершенным или деградировавшим он ни был, нужно защищать» («Утопия правил», с. 190–196).
Последняя важная черта торжествующих поныне «правил» – это мнимая безальтернативность бюрократического капитализма, и здесь Гребер вступает на путь, давно освоенный, к примеру, Филипом Диком, чья война с реальностью успехом не увенчалась, но отразилась в сюжете «Человека в высоком замке»: любая реальность эмерджентна, и, если участвующие в ней люди перестанут рутинно воспроизводить базовые элементы такой реальности, она рассыплется подобно ветхому пню. Гребер доказывает, что успех бюрократии всегда и везде зависит от того, насколько успешно она представляет себя в качестве «единственно возможного варианта». Главным же инструментом такой репрезентации, по его мнению, является неослабевающая вера человечества в рациональность.
Мысль Гребера в этом отношении весьма справедлива: все существующие интерпретации «рациональности» действительно напоминают некие «формы духовности», граничащие едва ли не с религиозными убеждениями. Если, к примеру, мы полагаем «рациональностью» эмпирически обоснованный и логически последовательный довод, за ее пределами остается лишь безумие – и, соответственно, безумцы, отчего торжество «рациональности» превращается либо в трюизм, либо в фашистскую диктатуру. Если же мы считаем «рациональностью» обезличенное и эмоционально нейтральное стремление к выгоде, то не очень понятно, откуда мы берем обоснование того, что подобные действия воистину являются наиболее обоснованными и социально значимыми. «В действительности бюрократии редко бывают нейтральными, – пишет Гребер. – Они почти всегда подчиняются привилегированным группам или благоприятствуют им больше, чем остальным». Иными словами, бюрократия создает иллюзию, что «все звери равны», но некоторые все равно остаются «равнее других», и именно сокрытие этого момента составляет главную суть мифа о «рациональности».
Отражение этого, на первый взгляд, теоретического замечания мы можем со всей очевидностью наблюдать в самых разных странах и при самых разных режимах: рациональные добродетели «технократа», «силовика» или «эксперта» все чаще подаются как самоочевидные, хотя за ними скрываются действия, которые далеко не всегда являются нейтральными, общественно полезными или даже элементарно разумными. Подобный миф пытался развеять Грэм Грин, описавший разведчиков, принимающих чертежи пылесоса за зловещее супероружие, – уже это должно было дать понять, что «самым рациональным» тоже свойственно ошибаться, и лишать их такой возможности значит своими руками создавать фашистский режим, где некоторые владеют какими-то «сверхспособностями» и откровенно сакральным «тайным знанием». Даже в США с их разделением властей и системой противовесов это все чаще выражается в почти гуверовских призывах «доверять разведке» – речь даже не о Патриотическом акте, а о реплике конгрессмена-демократа Адама Шиффа, сказавшего, что новый избранный президент не просто может, но должен доверять разведке и должен полагаться на нее.
Итогом бюрократической рационализации действительно являются «супергерои» – именно так, по всей видимости, чувствуют себя сотрудники «органов безопасности» или избранные в гибридных режимах лидеры, снимающие с шахматной доски публичной политики любые фигуры, представляющие для них потенциальную опасность. И там, и там перед нами оказывается своеобразный Бэтмен, «герой, нужный Готэму», вершащий свой суд, обращающийся для этого к насилию и, конечно, защищающий неведомо откуда взявшийся порядок, подкрепленный истовым убеждением в безальтернативности такового.
Социолог Григорий Юдин писал, что в предыдущей своей работе, «Долге…», Гребер «атакует центральное явление нашей жизни»; но вот бюрократия, пожалуй, даже на первый взгляд встречается нам куда чаще явления долга. Поэтому книга Гребера обязательна к прочтению для тех, кто свято уверен в двух вещах: незыблемости правил и отсутствии у человечества права выбора собственного будущего.
Читайте также:
Фрагменты анархистской антропологии (Дэвид Гребер)
Борг: історія перших п'яти тисяч років (Девід Гребер)
Война и строительство государства как организованная преступность (Чарльз Тилли)
Notes:
1. Политика постправды (англ. post-truth politics) — тип политической культуры, в которой дискурс характеризуется частыми взываниями к эмоциям, не связанным с деталями политических проблем, а также упорным игнорированием фактов, опровергающих утверждения. ↩
Рецензия на книгу: Гребер, Д., 2016. Утопия правил. О технологиях, глупости и тайном обаянии бюрократии. М.: Ad Marginem.



