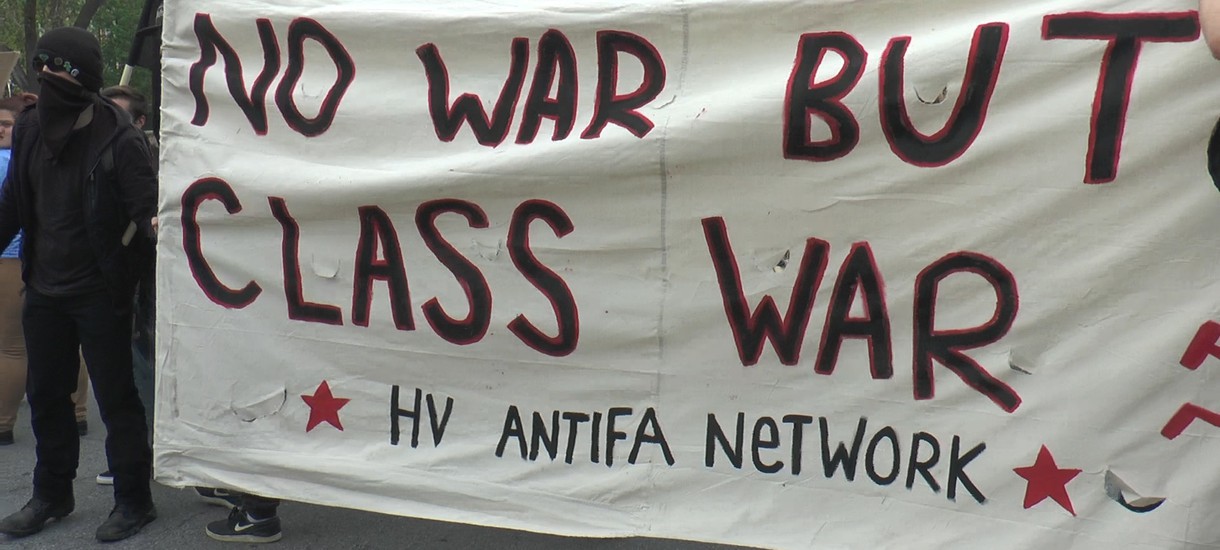Этьен Балибар
Война для марксизма – не вполне понятие, но, несомненно, проблема[1]. Марксизм, хотя и не мог изобрести понятие войны, мог, так сказать, создать его заново, – иначе говоря, ввести вопрос войны в свою собственную проблематику и выработать марксистскую критику войны, или критическую теорию ведения войны, военных ситуаций и процессов, с совершенно оригинальным содержанием. В определенном смысле это можно было бы считать своего рода тестом способности марксизма утвердить себя в качестве подлинно независимого дискурса. История марксистской мысли богата примерами поучительного анализа войны в целом и конкретных типов войны. Но случилась некоторая неловкость: вместо того, чтобы способствовать расширению сферы приложения марксизма и подтверждению его внутренней связности, проблематика войны произвела глубоко деконструктивный эффект, доведя исторический материализм до его границ и показав, что осознать и объяснить эти границы он на самом деле не может.
Но более того: вмешательство марксизма в дебаты вокруг войны, а тем самым — также и мира и политики, существенно пошатнуло эту традиционно симметричную схему, введя в рассмотрение революцию в качестве дополнительного слагаемого (а «классовая борьба» служит во многом лишь фоном для идеи революции). Это расшатывающее воздействие на понятие политического наблюдается не только в самом марксизме, но и в так называемой «буржуазной» теории. Однако, если смотреть с марксистской точки зрения, как она была выражена Марксом с самого начала в «Нищете философии» и «Коммунистическом манифесте», понятия классовой борьбы и революции неполитические; они предвосхищают «конец политического государства» или ограничивают автономию политической сферы. С другой стороны, в конечном счете, сочетание «войны» и «революции» как проявлений классовой борьбы – и препятствий для ее развития – представляется глубоко неполитическим. Иными словами, понимание войны и управление ею не только остается проблемой для марксистов, не только выступает в качестве границы исторического материализма, – но через конфронтацию с марксизмом открыто проявляется неполитический характер войны. Это свидетельствует о важности марксизма как одной из самых глубоких попыток теоретического осмысления политики и политического в современную эпоху, но в то же время, по-видимому, указывает на то, что «марксистское» решение, которое положило бы конец загадкам любой политики войны, остается недостижимым.

Именно в связи с этими вопросами и с целью разобраться в том, какие выводы отсюда следуют, я хочу рассмотреть, как артикулируется тема «марксизм и война», проследив одну за другой три линии, каждая из которых отдает преимущество определенным авторам и определенным текстам. Конечно, они не являются на самом деле независимыми, а все время «накладываются» одна на другую; но они заслуживают того, чтобы рассматривать их по отдельности. Во-первых, это проблема концептуализации классовой борьбы в терминах «гражданской войны» или «социальной войны»; во-вторых, это проблема соотношения между капитализмом и войной и проблема «капиталистических войн», или специфической формы, целей и политических последствий войн при капитализме, с марксистской точки зрения. Третий момент будет посвящен проблеме исторического соотношения между революцией и войной, и тем самым – ключевому вопросу «революционных войн», диалектическому напряжению между военными и политическими элементами в революционных процессах и ситуациях. Это порождает «неудобные» вопросы, касающиеся превращения революционной политики в контрреволюционную через милитаризацию революции.
Классовая борьба как гражданская война: новое понятие политического
Приравнивание «классовой борьбы» (Klassenkampf) к «гражданской войне» (Bürgerkrieg) было провозглашено в «Коммунистическом манифесте», и последствия этого приравнивания в марксизме и вокруг него носили долговременный характер. Мы должны понять, откуда оно появилось, что в точности оно означало, к каким трудностям оно привело, какой след оно оставило в марксистском дискурсе, чтобы пережить мощное возрождение в ленинском понимании диктатуры пролетариата. В свою очередь, это ленинистское возрождение является ключевым моментом, если мы хотим интерпретировать некоторые дилеммы, структурирующие политический дискурс сегодня, особенно в форме того, что я ниже обрисую как выбор между «шмиттианским» и «грамшианским» понятием политического.
В последнее время этот вопрос стал ставиться более резко благодаря провокативному вмешательству Мишеля Фуко. В своих лекциях 1976 года в Коллеж де Франс он провозгласил, что известное изречение Клаузевица из книги «О войне» следует, с критической и исторической точки зрения, «перевернуть»: не война, пишет он, должна рассматриваться как «продолжение (Fortsetzung) политики иными средствами», но сама политика есть еще одна форма войны[i]. В действительности Фуко очень мало говорит о Клаузевияце, но он предлагает генеалогию выражения «классовая борьба», возводящую его к историкам, которые в интервале между XVII и XIX столетиями интерпретировали иерархии феодального общества и противостояние аристократов и буржуа в терминах «войны рас», ставшей результатом завоевания. Фуко рассматривает понятие «классовой борьбы» (относительно которого, как хорошо известно, Маркс никогда не утверждал, что он его изобрел) как поздний побочный продукт трансформации «войны рас», точно так же, как и соперничавшее с ним в XIX веке – на стороне контрреволюции – понятие «расовой борьбы» (der Rassenkampf). Эта интерпретация указывает на некоторые элементы предыстории «изобретения» в «Коммунистическом манифесте» основанной на понятии классовой борьбы теории мировой истории, и в этом смысле она полезна. Но в то же время она несколько искажает то, что имеется в виду в контексте, и, как ни странно, по-видимому, использует против Марксату идею, которую он ставил в самый центр своей теории, а именно идею непримиримого антагонизма – который лучше всего назвать как раз «войной» в обобщенном смысле.

Нам нужно вернуться к подлинным формулировкам. Отождествление классовой борьбы и социальной или гражданской войны[2] следует из двух фраз, которые можно найти в начале и в конце главы 1 «Коммунистического манифеста»:
«История всех до сих пор существовавших обществ была историей борьбы классов.
Свободный и раб, патриций и плебей, помещик и крепостной, мастер и подмастерье, короче, угнетающий и угнетаемый находились в вечном антагонизме друг к другу, вели непрерывную, то скрытую, то явную борьбу, всегда кончавшуюся революционным переустройством всего общественного здания или общей гибелью борющихся классов. <…>
Описывая наиболее общие фазы развития пролетариата, мы прослеживали более или менее прикрытую гражданскую войну внутри существующего общества вплоть до того пункта, когда она превращается в открытую революцию, и пролетариат основывает свое господство посредством насильственного ниспровержения буржуазии»[3].
Это отождествление порождает ряд очень интересных проблем. Во-первых, относительно его непосредственных источников, что определяет частично и его смысл. Мы знаем, что текст «Манифеста» – палимпсест: почти каждая фраза заимствована у предыдущих авторов, старых или современных, но результат их сочетания поразительно нов и оригинален. В данном случае особенно важны два контекста. Само понятие антагонизма – скорее кантианского, чем гегельянского происхождения – пришло через «Изложение сен-симонистской доктрины» (“Exposition de la Doctrine Saint-Simonienne”), ключевой текст, предоставивший также бинарные схемы «эксплуататорских» и «эксплуатируемых» классов, начиная с рабовладельцев и рабов и заканчивая капиталистами и наемными работниками[4].Но сами сен-симонисты принимали – или даже систематизировали – идею, которая станет одним из опорных принципов «социологической традиции», а именно – идею, что индустриализация влечет за собой преодоление военных форм доминирования в истории, порождает тенденцию к замещению войны торговлей и производством. Маркс в некотором смысле перевернул этот вывод, разъяснив, что индустриальная революция и процесс пролетаризации запустили лишь новую форму войны. При этом он обращается к терминологии и метафорическому дискурсу, укорененным в определенном историческом контексте, как узком, так и широком. В узком смысле это прямое заимствование из бланкистского дискурса о «войне насмерть между классами» – то есть дискурса неоякобинского, из которого несколькими годами позднее будет выведена и «диктатура пролетариата»[5]. Более широкий исторический контекст, столь же важный, связан со всем дискурсом критики нового индустриального и буржуазного общества в 1840-е годы – в терминах «двух наций», как в романе Бенджамина Дизраэли[6], или в терминах «социальной войны», как у Оноре де Бальзака, который, как мы знаем, оказал огромное влияние на Маркса и Энгельса[7].
"Следствием представления о классовой борьбе как о длительной гражданской войне, охватывающей целые исторические эпохи и в конечном счете – весь ход истории, является описание самих классов как «лагерей» или «армий»."
Говоря о значении этой формулировки, я сосредоточусь на трех пунктах.
1. Хотя Маркс понимает ее как радикальную критику идеи «политики» или автономии политики так, как она определяется партийной политикой после буржуазных революций, модель «войны» для классовой борьбы, несомненно, подразумевает новое понятие политического. По-видимому, чтобы понять его, лучше всего развить присутствующее в тексте указание на колебания между «фазами», когда гражданская война скрыта или невидима, и другими «фазами», когда она становится открытой или видимой. Политика в сущностном смысле тогда относилась бы к переходу от одной фазы к другой, к превращению скрытой гражданской войны в видимую (а следовательно – в сознательную, организованную), – и, может быть, также к обратному переходу. Поэтому она ведет к разрешению социального антагонизма, именуемому «победой» или «поражением» (и мы никогда не должны забывать о третьей, неприятной, возможности – «общей гибели борющихся классов», der gemeinsame Untergang der kämpfenden Klassen, о «трагическом» варианте, напоминающем о гегелевских формулировках, относившихся к падению античных цивилизаций). Было бы очень интересным уже само обсуждение соответствий между этим понятием политического и тем, которое подразумевается в формуле Клаузевица; хотя Маркс и Энгельс в то время не читали его, его формула здесь действительно определенным образом «переворачивается».
2. Следствием представления о классовой борьбе как о длительной гражданской войне, охватывающей целые исторические эпохи и в конечном счете – весь ход истории, является описание самих классов как «лагерей» или «армий». Интересно, что это представление классов как армий предшествует всем марксистским разработкам на тему классовой партии или классового сознания, которые подчинены этому представлению.
3. Наконец, эта идея прямо связана с представлением о поляризации классов и о катастрофическом результате экономического процесса при капитализме. Здесь фигурирует некоторая совершенная телеология. Чем дальше мы продвигаемся в истории классовой борьбы к современному капитализму, чем дальше мы продвигаемся в ходе промышленной революции внутри самого капитализма, тем более гражданское общество становится в действительности разделено на радикально исключающие друг друга антагонистические группы, внешние друг другу, и окончательная конфронтация имеет место тогда, когда старый общественный строй окончательно распался, и буржуа-капиталисты довели пролетариат до отчаянного положения, когда стоит выбор между голодной смертью и восстанием – то есть революцией.

Все это должно было оставить глубокий след в марксистском дискурсе, и, как мы увидим, после некоторого скрытого периода эти идеи опять активируются – в новой ситуации, в которой революция и катастрофа снова представляются тесно взаимосвязанными. Но в краткосрочной перспективе от них вскоре отказались, и благодаря этому отказу стало возможным появление марксовой критики политической экономии и энгельсовской доктрины «исторического материализма» – мы должны понять, почему[8]. Мои гипотезы таковы:
1. От отождествления Klassenkampfи Bürgerkrieg пришлось отказаться, поскольку революции и контрреволюции 1848–51 гг. продемонстрировали паттерн реальных «гражданских войн», в которых пролетариат не только потерпел поражение, но и пережил на собственном опыте неадекватность своих представлений о соотношении между кризисами и классовой политикой: поляризация работала в направлении, противоположном коммунизму. Он также ощутил на своем опыте недостаточность своего понимания государственной власти и государственного аппарата. Вследствие этого появилась тенденция к «переворачиванию» соотношения между идеями «классовой армии» и «политической партии класса в целом».
2. Этот трагический опыт повторялся множество раз в истории марксизма вплоть до сегодняшнего времени. Но в то же время каждый новый тип гражданской войны порождал новые проблемы, касавшиеся классовой структуры гражданских войн – или того, каким образом они дробят и деформируют классовые структуры[9].
3. «Великое исключение» из этой тенденции связано с ленинской теорией и практикой диктатуры пролетариата между 1918 и 1921 годами. Это возрождение [отождествления классовой борьбы с гражданской войной] привело к бесчисленному множеству последствий. В этой связи на самом деле нужно было бы привести ряд предварительных соображений, начиная с обсуждения сменявших друг друга толкований понятия «диктатура» среди марксистов и заканчивая описанием положения дел во время войны, побудившего Ленина и большевиков выдвинуть лозунг «превращения империалистической войны в революционную гражданскую войну». Но здесь достаточно будет указать, что диктатура пролетариата понимается Лениным как долгая «борьба не на жизнь, а на смерть» между старым и новым обществом, сочетающая военные и административные, насильственные («террористические») и ненасильственные (массовые «педагогические») тактики и тем самым ставящая политическое руководство (или партию) перед постоянной стратегической дилеммой[10]. Во многих отношениях эта классовая война поэтому в то же время и не-война или анти-война – точно так же, как государство при диктатуре пролетариата описывается как не-государство или анти-государство, находящееся уже на пути к своему «отмиранию»[11]. И во многих диалектических формулировках на самом деле скрываются неразрешимые загадки, например: как сочетать интенсификацию пролетарской идеологии, которая необходима, чтобы выковать единство рабочего класса как армии и обеспечить его гегемонию в отношении классов-союзников, с продвижением к бесклассовому обществу?[12]
4. В идеале мы должны были бы завершить этот первоначальный обзор описанием новой дилеммы, возникающей из рефлексии над вышеописанным опытом, которую я выразил бы в символической форме так: «Карл Шмитт или Антонио Грамши – какое из «постленинистских» понятий политического?». Не случайно эта альтернатива специально исследовалась в итальянском марксизме (или постмарксизме) в 1980-е гг., и как следствие – также и в других странах под влиянием этой школы. Шмитт, конечно, не марксист, но ему было присуще глубокое понимание определенных аспектов марксизма – как реакция, в свою очередь, на марксизм как политическую теорию. Это результат того, что он хотел построить концепцию «политического» как превентивной контрреволюции, в форме приоритета внешнего (т. е. национального) врага по сравнению с внутренним (классовым врагом государства), но на практике он знал, что первым должен быть подавлен внутренний враг, и это подавление приходится повторять снова и снова[13]. Что касается Грамши, его концепция политического не основана на первичности понятия врага (даже классового врага), но она явным образом остается привязанной к модели войны. Диктатура пролетариата становится здесь стремлением к «гегемонии», ядро стратегии имеет дело с различными уровнями «соотношения сил», кульминацией чего становится превосходство «позиционной войны» над «маневренной», хотя это зависит от обстоятельств и структуры самого общества[14]. Эта «позиционная война» лучше всего описывается не как «подавление контрреволюции», а как альтернатива «пассивным революциям» буржуазии, которые проводят процессы модернизации сверху, оттесняя «низшие» слои в политически подчиненную позицию чистого экономического ресурса.
Война и капитализм
Мне придется быть более чем схематичным по второму вопросу, охватывающему огромный объем литературы: война и капитализм, и отсюда – историчность войны с точки зрения «исторического материализма». Исторический материализм был созданием Энгельса, – что не означает, что Маркс отвергал его. Корни этой общей теории трактуются по-разному. В одной из этих трактовок говорится о расширении критики политической экономии и марксова анализа капиталистического способа производства до уровня целостной схемы, интерпретирующей «закон развития» общества и его диалектическое превращение в другое общество или «общественную формацию» (Gesellschaftformation). Но другая, столь же убедительная, трактовка говорит о необходимости обрести понимание общественных процессов, которые осложняют классовую борьбу или даже, по видимости, изменяют ее типичную тенденцию на противоположную, сведя эти процессы «в конечном счете» к тому же принципу эволюции. Две такие критически важные проблемы – проблема религии и проблема войны. Энгельс рассматривал их очень серьезно, особенно вторую, где он несомненно оказал влияние на Маркса и играл ведущую роль. Это можно объяснить его личным опытом как организатора во время военного этапа революции 1848 года в Германии[15], но также и его специальным интересом к конкретной институциональной истории.
Теперь война, о которой идет речь, – это не классовая войнаи не «общее» или «обобщенное» понятие насильственного антагонизма; это эмпирическая война – в особенности война национальная, но в некоторых случаях также война гражданская, например, американская гражданская война, которой уделил немало внимания Маркс. Беглый взгляд на собрание сочинений Маркса и Энгельса между 1857 и 1870 годами покажет, что несколько томов полностью или почти полностью посвящены статьям и очеркам на темы дипломатии и войны в Европе и за ее пределами[16], к которым Энгельс и Маркс подходят одновременно как европейские демократы (в особенности когда они атакуют контрреволюционный порядок, навязанный альянсом Британии и России, затем превратившимся в соперничество) и как возможные будущие лидеры международного рабочего класса, который должен выступить на сцену в качестве автономного политического игрока. Добавим к этому целый том описательных и теоретических очерков о категориях военной науки и исторических примерах ведения войны, написанных Энгельсом для «Новой американской энциклопедии»[17]. Пришло время отдать должное этому огромному корпусу текстов и оценить его роль в создании исторического материализма. Но также необходимо обсудить, в какой степени эти тексты в действительности деконструируют основы той теории, которую они должны были бы выстраивать.

Здесь моя гипотеза будет такова: у Энгельса впервые происходит критическое усвоение идей и проблематики работы Клаузевица «О войне» (а также его более ранней книги о франко-русской войне 1812 года), и это сразу начинает играть определяющую роль. Другие авторы следуют за Энгельсом, всякий раз смещая акценты в сторону разных аспектов того, что можно было бы назвать клаузевицевской «аксиоматикой» войны, и иногда «переворачивая» его интерпретации, в особенности – в том, что касается ключевых понятий разграничения абсолютных и ограниченных войн, приоритетного значения «морального» фактора в современных войнах и превосходства в долгосрочной перспективе оборонительных стратегий над наступательными; это тем самым давало возможность по-разному развивать идею о том, что война есть «продолжение» политики иными средствами. Херфрид Мюнклер говорит о «диалектике милитаризма», с которой Энгельс на протяжении всей жизни связывал свои устремления, но он же обращает наше внимание и на то, что под влиянием опыта своего времени, включая переход к ранним этапам империализма[18], Энгельс должен был признать, что «историко-материалистическая» концепция войны не дает универсальной оценки отношения войны к классовой борьбе, тем более – уверенности относительно ее роли в переходе от капитализма к бесклассовому обществу.
"Черпая отчасти вдохновение в классическом космополитизме, но пытаясь освободиться от его связей с утопией, в «Коммунистическом манифесте» авторы представили интернационализм как фактическую тенденцию в истории."
В диалектике войны и милитаризма, как она излагается Энгельсом, взаимодействуют два «противоречия»: одно из них имеет дело с влиянием военной технологии на организацию армий и изменения в стратегических моделях (аналог развития производительных сил) и последствиями вовлечения народа – масс – в ряды призывных армий (аналог общественных производственных отношений); другое противоречие касается возрастающей роли национальных государств и конкуренции между нациями и антагонистического отношения этих тенденций к интернационализации экономики и развитию интернационализма среди трудящихся классов. Энгельс постепенно переходил от идеи, что гонка технологических усовершенствований и новых видов вооружений достигнет некоторого абсолютного предела, поскольку она накладывает на государства избыточное финансовое бремя, к представлению, согласно которому гонка вооружений практически так же не ограничена, как и сам процесс капиталистического накопления. И от убеждения, что призывные армии перенесут классовую борьбу в самое сердце государственного аппарата, он перешел к более осторожному прогнозу о том, что возможность воспрепятствовать всеобщей войне между соперничающими капиталистическими государствами будет зависеть от того, насколько сами трудящиеся классы обратятся от национализма к интернационализму. В этих соображениях, привносящих в исторический материализм сильный элемент неопределенности, мы уже можем увидеть предвосхищение дилеммы Розы Люксембург 1914 года, когда, несмотря на усилия пацифистов и социалистов, пытавшихся мобилизовать трудящиеся классы всех стран против их собственных правительств, разразилась великая «европейская гражданская война» XX века: «Социализм или варварство!»[19].
Обозначу схематически еще три вопроса, которые следует связать с этой общей проблемой теории войны как существенной составной части исторического материализма:
1. После Энгельса «диалектика милитаризма» переходит в теорию империализма в виде идеи, что с достижением капитализмом «стадии» конкуренции за колониальный захват мира между господствующими нациями, милитаризм становится не только результатом, но и двигателем исторического развития. (По иронии судьбы, эта социалистическая идея, широко разделявшаяся в то время, стала позднее – в фашистских государствах, но также и в «кейнсианском» либерализме – позитивным исходным пунктом и программой для самих капиталистов.) Это вновь подняло вопрос о взаимодействии между политическим и военным и поставило под сомнение характеристику того, что является «определяющим в конечном счете». Проблема еще усложнилась после того, как вследствие самих войн возникли «социалистические государства», ставшие крупными «стратегическими игроками» в конфронтации между милитаризованными державами в мировом масштабе.
2. Это ведет ко второму ключевому вопросу, который, как мы знаем, так никогда и не был решен по-настоящему: вопросу о реальных корнях и действенности интернационализма, выступающего в качестве формы, в которой эксплуатируемые классы могут навязать конкретную ориентацию мировой политике – или же не могут этого сделать. Именно в ходе войн он проходил «тест на реальность». То, что в «Коммунистическом манифесте» описывалось как свершившийся факт, – отмирание патриотизма и национализма внутри пролетариата – теперь выступало как процесс, подверженный рискам и могущий развиваться в противоположных направлениях. С одной стороны, этот интернационализм колебался между пацифизмом (его последним по времени блестящим изложением в марксистских терминах, возможно, была теория «экстерминизма» Э. П. Томпсона, концептуализирующая программу антиядерных социальных движений[20]) и так называемым революционным пораженчеством, отстаивавшимся в особенности троцкистской традицией[21]. С другой стороны, он существенно подрывался тем обстоятельством, что массы, о которых шла речь, представляли собой не сходные друг с другом «рабочие классы» одинаково развитых капиталистических государств, а разнородные населения стран и регионов по обе стороны колониального и постколониального разделения, с расходящимися идеологиями и, возможно, также во многом непримиримыми интересами[22].
3. Наконец, нам не избежать обсуждения того, как идея «материалистической» теории военных конфликтов и их исторической роли нашла свое выражение в советской военной доктрине. Военная организация СССР появилась в результате гражданской войны, когда Троцкий и другие создали Красную Армию и разработали ее стратегию. С учетом той важности, которую она приобрела в качестве одной из центральных составляющих советского государства, – уже перед второй мировой войной, но больше всего после доставшейся дорогой ценой победы в «Великой Отечественной войне» против нацистской Германии и формирования политико-военно-промышленного комплекса, практически управлявшего страной и ее сателлитами в период «холодной войны», – неудивительно, что «Большая советская энциклопедия» в каждом новом своем издании представляла всеобъемлющую трактовку вопроса о войне, где формула Клаузевица была канонизирована[23].

Таким образом, историко-критическое рассмотрение влияния войны и военной проблематики на марксистскую теорию возвращает нас к проблеме интернационализма. Черпая отчасти вдохновение в классическом космополитизме, но пытаясь освободиться от его связей с утопией, в «Коммунистическом манифесте» авторы представили интернационализм как фактическую тенденцию в истории: поскольку «милитаризм» и «национализм» в действительности уже «в прошлом» (идея, явно отражающая сен-симонистское влияние), они не смогут влиять на революционную классовую борьбу изнутри. Реально этот вопрос оказался не теоретической, а политической проблемой, исключительно трудно решаемой, но в то же время все более важной с точки зрения самой классовой борьбы. Эта проблематика неотделима от изменения функции наций и восприятия их исторической роли. На самом деле сочетание социальных и национально-освободительных движений в столетнем процессе деколонизации привело к совершенно новому пониманию артикуляции классового и национального факторов истории и к возрождению интернационализма как в теории, так и организационном плане, со времен Коминтерна до «Конференции трех континентов» и далее. Сейчас, когда освободившиеся колонии или полуколонии стали, в свою очередь, националистическими или милитаристскими государствами, это тоже отошло в прошлое и требует критического рассмотрения. Но отсюда видна важность обсуждения третьего ключевого аспекта проблемы «война и политика» в марксизме, касающегося форм и последствий революционной войны.
Война и революция
В некотором смысле, мы только сейчас подходим к тому, что составляет «сердце» проблемы. Две линии, которые мы рассматривали по отдельности, – классовая борьба как «гражданская война» (в обобщенном понимании) и милитаризм как выражение капитализма, – сливаются в один практический вопрос: как «сделать» революцию? Более конкретно: как марксисты совершали революции, в которых они участвовали, что они о них думали, – и какова была, по существу, их цель? В идеале мы должны здесь рассмотреть целиком всю современную эпоху (modernity) как великий «цикл» исторических трансформаций, куда марксизм пытался «вписаться» как «революция внутри революции», до тех пор, пока мы не достигаем момента «постсовременности», – иначе говоря, возникновения «новых войн», частично или полностью постнациональных. Можно ли к ним все еще подходить с марксистской точки зрения – вопрос тем более интересный, что исторически концепция таких войн разрабатывалась путем «поворота на 180°» определенных революционных теорий по сравнению с их первоначальным смыслом.
"Для некоторых марксистов война стала главным революционным путем к бесклассовому обществу; но какая война?"
Проблематику «революционной войны» можно проследить, начиная по крайней мере с французской революции и ее воздействия на европейский политический порядок. Эта революция породила прототипы всего того, что впоследствии сформирует темы дискуссий, – сюда относятся «оборонительная война» против наступающей контрреволюции; создание нового типа «народной» армии, где дисциплина и боевой дух были основаны на идеологии, а не только на командовании (отсюда появление «политических комиссаров» или возрождение античного понятия «диктатуры» – в шмиттианском смысле); конфронтация революционных и контрреволюционных сил, сочетающих социальную и идеологическую мотивацию (с моментами «мятежа» на обеих сторонах – «террора» и «Вандеи»); рождение понятий «партизанской войны» и «герильи», революционный характер которых сразу проблематизировался, поскольку в России, Испании и Германии такие войны велись против «революционной нации», превратившейся в империалистическую; и т. д. В некотором смысле, марксизм никогда не выходил за пределы этой типично «модерновой» парадигмы, но постоянно пытался преобразовать или реартикулировать ее. Отношение к революционному использованию войны стало критерием, в соответствии с которым следует спросить: а имело ли однозначный смысл само понятие «революции»? Для французской («буржуазной») революции война представлялась лишь случайностью, но эта случайность изменила ее результат, прежде всего тем, что она трансформировала революцию в систему завоевания территорий, но также и тем, что она привела к воссозданию и дальнейшей экспансии того, что Маркс в «18 брюмера» называет «государственной машиной». Для некоторых марксистов война стала главным революционным путем к бесклассовому обществу; но какая война? Или: каким образом используемая война? Возникли две тенденции, концептуально противостоящие друг другу, даже если исторически они не всегда выступали отдельно: революционная война масс (в том числе и «герилья», сельская или городская) и массовое сопротивление войне, так сказать, революционная «война против войны», ведущаяся «изнутри».

Мы обнаруживаем эти установки прежде всего в работах Ленина 1914–17 гг. и в работах Мао Цзэдуна периода «народной войны» против японской оккупации под руководством Коммунистической партии Китая. В обоих случаях этот подход связан с бросающимся в глаза возвратом к некоторым клаузевицевским аксиомам, на этот раз перенесенным в совершенно другой контекст. Почву для этого подготовил Энгельс, одновременно критиковавший Клаузевица за якобы «идеалистический» акцент на моральных факторах и пытавшийся найти некий материалистический эквивалент, который оказался бы совместимым с отстаиваемым тезисом о технологических, экономических и социальных факторах, вызывающих войны. Этот эквивалент был найден в виде идеи о том, что народные армии или массовая воинская повинность потенциально вносят классовую борьбу внутрь самой армии; тем самым характерный для Клаузевица страх перед массами в военных делах превращался в свою противоположность – пророчество об их выходе на сцену в качестве новых стратегических субъектов действия против государства и его военной машины. Но лишь у Ленина и Мао Цзэдуна этот стратегический принцип привел к новой артикуляции взаимоотношения войны и политики, с заменой клаузевицевского сочетания – «единство государства, армии и народа» – на «новое историческое единство класса, народа и революционной партии».
Ленин, как мы знаем, внимательно читал Клаузевица, делая выписки и заметки на полях его книги «О войне», после краха Второго Интернационала и его пацифистской политической повестки. Он сформулировал и предпринял успешную попытку осуществить (по крайней мере в своей стране) лозунг «превращения империалистической войны в революционную гражданскую войну», в котором «моральный фактор» (интернационалистское классовое сознание) описывается как появляющийся со временем политический результат ужасов «народной» (то есть ведущейся массовыми национальными армиями) войны. Это совершенно новая интерпретация идеи «наступления», которое готовится изнутри «обороны», необходимость чего выводится из того факта, что «абсолютную» войну со временем становится невозможным продолжать. Поэтому необходимо вновь создать условия для классовой политики за счет государства, которое, в некотором смысле, может воплощать политику лишь до тех пор, пока оно сохраняет способность вооружать людей и контролировать использование полученного ими оружия, но превращается в политический фантом, когда его лишают этой способности, – или, можно было бы сказать, по мере того, как история переходит от государственной монополии на легитимное насилие к классовой монополии на исторически решающее насилие. Я предполагаю, что это перетолкование Клаузевица составляет одну из отправных точек шмиттовского неполитического понятия «политического» – где суверенитет отождествляется со способностью установить «чрезвычайное положение» внутри государства для превентивногоподавления классовой борьбы, и, таким образом, обозначение «внутреннего врага» – врага в «классовой гражданской войне» – используется для воссоздания монополии государства и его способности вести внешние войны.
"У знаменитого маоистского лозунга «самодостаточности» есть неявный националистический аспект, и это не осталось без последствий для дальнейшего развития китайской революции."
Но лишь в теории «затяжной партизанской войны» Мао Цзэдуна мы находим то, что можно рассматривать одновременно как марксистское «спасение» клаузевицевского понятия войны как «продолжения политики иными средствами» и как альтернативу представлению Клаузевица о политическом. На самом деле я склоняюсь к тому, чтобы считать Мао Цзэдуна не только самым последовательным клаузевицианцем в марксистской традиции[24], но и, возможно, самым последовательным клаузевицианцем вообще после самого Клаузевица, поскольку он заново интерпретировал всеего постулаты, а не только один или два из них. Мы сейчас знаем, что после окончания «Великого похода», в 1938 году в Яньане, Мао организовал специальный семинар по работам Клаузевица, для которого даже перевел часть работы «О войне» на китайский[25]. Главная идея Мао состояла в том, что оборонительная стратегия, вынужденная тем обстоятельством, что первоначально империалистический враг и правящая буржуазия располагают армиями, а у пролетариата и крестьянства никакой армии нет, в конце концов превратится в свою противоположность и реально приведет к тому, что «слабейшие» своими руками уничтожат «сильнейших». (Здесь, кроме того, важно было бы выяснить, не имеет ли стратегическое мышление Мао корней также в традиционной китайской философии и историографии.) Таким образом, длительность войны – диалектического эквивалента клаузевицевского «трения», ныне именуемого «затяжной войной», – есть время, необходимое для того, чтобы крохотное ядро революционных рабочих и интеллектуалов, укрывшееся среди масс крестьянства, добилось тройного результата: 1) вооружилось за счет сил противника путем проведения локальных партизанских атак против изолированных подразделений армии вторжения; 2) «научилось» искусству стратегии, расширяя театр военных действий до национального уровня; 3) наконец, «разрешило противоречия внутри народа» и отделило народ от его врагов, перенеся гегемонию от внешней властик власти «имманентной», представляющей общий интерес всех национальных классов, испытывающих угнетение. Коммунистическая партия, как предполагается, будет (и надолго останется) именно этой имманентной властью.

Сегодня представляется довольно очевидным «слепое пятно» этого анализа, а именно – то, что в нем практически игнорируется международный контекст второй мировой войны, как будто в антиимпериалистической борьбе имели стратегическое значение только национальные силы. У знаменитого маоистского лозунга «самодостаточности» есть неявный националистический аспект, и это не осталось без последствий для дальнейшего развития китайской революции. Но результат остается впечатляющим – в смысле новой исторической интерпретации исторической рациональности войны и ее политического субъекта. Таким образом, в определенном смысле мы прошли полный круг; и, вероятно, не случайно завершение этого круга заключается в «переворачивании» иерархического отношения между институциональным ведением войны государством и народной партизанской войной.
В какой степени это переворачивание «разрешает» апории клаузевицевской модели «эскалации до крайностей» в обычных войнах? Оно скорее «смещает» их: источником трудностей у Клаузевица была невозможность утверждать a priori, что государство стало абсолютным хозяином того «инструмента», который оно должно было создать и использовать для превращения войн в «абсолютные войны» – то есть войны, которые ведутся руками вооруженного народа. Трудность у Мао (или та трудность, которую мы видим у Мао задним числом) проистекает из того обстоятельства, что имманентная власть организации, превращающей народ в армию, то есть революционной партии, может в полной мере осуществить стратегический разворот и остаться политическим субъектом лишь через превращение самой этой власти в государство (даже если это государство периодически разрушается и воссоздается революционными эпизодами, как то представлялось по маоистскому учению времен «культурной революции»). Единственная мыслимая альтернатива – очень маловероятная в условиях национально-освободительной войны – состояла бы в том, что эта организация воздержалась быот «взятия власти», или от продолжения революционной войны до ее «конечной» цели (Zweck) – полного уничтожения врага, тем самым так или иначе «уменьшив масштаб» войны от «абсолютной» до «ограниченной». Но субъект стратегического процесса остается во всех случаях расщепленным субъектом, или субъектом, колеблющимся между суверенитетом и мятежом. Некоторые современные теоретики и комментаторы «молекулярных войн» (Энценсбергер) или «имперских войн» (Хардт и Негри) разрешают эту апорию, просто устраняя категорию субъекта или сводя ее к негативным или дефективным фигурам наподобие «множества». Но тогда еще нужно объяснить, как при этом можно сохранить саму категорию «войны» иначе как метафорически.
Примечательно также, что эти вопросы стали центральными в дискуссиях о «партизанской войне», вышедших на первый план в 1960-е и 1970-е годы, особенно в Латинской Америке после победы кубинской революции и попыток развернуть ее «модель» в проект общеконтинентальных (или даже межконтинентальных) антиимпериалистических сетей локальных партизанских очагов (focos)[26]. Многие эпизоды этой недавней истории пока неясны, не только потому, что личные конфликты и предательства все еще тяготеют над современными оценками итогов и наследия революционного цикла, который в конце концов был подавлен сочетанием военных диктатур, интервенции США, внутренних расколов и политического авантюризма, но и потому, что многие дискуссии остаются абстрактными и игнорируют то, насколько каждый эпизод милитаризованной классовой борьбы был фактически продолжением местной и национальной истории под другими именами. Это принципиально важно для понимания воздействия инородных движений и идеологий, в действительности существенно «сместивших» марксистский дискурс или повлиявших на него изнутри. Явно таким образом обстояло дело в Латинской Америке с «политической теологией» в широком смысле, в частности – в форме «теологии освобождения». Без такого влияния невозможно было бы понять возникновение в более недавний период «поствоенных» партизанских движений, таких, как мексиканские сапатисты, которые довели до крайнего предела клаузевицевскую идею «оборонительной стратегии», отреагировав на растущую милитаризацию господствующего социального порядка и его методы превентивной контрреволюции в виде террора против социальных движений – сознательным отмежеванием народного сопротивления от захвата государственной власти и тем самым наделив новым и неожиданным содержанием грамшианскую идею «позиционной войны» в аспекте политического «самоограничения».

Этика, политика, антропология
Сегодня, в начале XXIвека, многие из поднятых выше вопросов, вместе с диалектической терминологией, в которой они обсуждались, кажутся принадлежащими к безвозвратно ушедшей эпохе. «Новые войны», сочетающие изощренные технологии с «архаической» жестокостью, внешние интервенции с «гражданскими» или эндогенными противостояниями, ведутся повсюду в глобальном мире вокруг нас. Создается впечатление, что они возрождают скорее «гоббсовскую» модель «войны всех против всех», чем марксистский примат классового детерминизма, с тем отличием, что эта система всеобщего антагонизма не предшествует утверждению современного государства с его «монополией легитимного насилия», но приходит посленего. Она «постинституциональна»[27]. Даже когда в войнах присутствует существенный фактор сопротивления империалистическому завоеванию и господству, они при этом не имеют специфического «революционного» содержания или перспективы, а носят националистический, религиозный или культурный характер.
Это не значит, что «большой цикл» марксистских разработок, в котором непрерывно переплетаются категории политики, войны и революции, более не заслуживает интереса. Во-первых, они преподают политический урок: спустя более чем 150 лет после «Коммунистического манифеста», как «мирная стратегия» (и, в более радикальном варианте, стратегия пацифистской, антимилитаристской революции), так и стратегия «вооруженной революции», как оружие критики, так и критика оружием, не смогли дестабилизировать капитализм. Только сам капитализм, похоже, и дестабилизирует себя, производя гигантские области социальной анархии или аномии. Отсюда можно было бы предположить, что проблема революционной трансформации была неправильно сформулирована. Говоря точнее, можно было бы предположить, что для революций «война» – не стратегия или стратегический инструмент, а скорее характеристика положения дел, элемент, так что любая «революционная» перспектива – в смысле радикальной социальной трансформации – должна будет иметь дело с перманентными структурами крайнего насилия («войны»), точно так же, как она должна будет иметь дело с перманентными структурами эксплуатации. Если «война» представляет границу или предел (Grenze) исторического материализма (как и «религия», отчасти по тем же причинам), это может стать и условием возможности его возрождения (или, может быть, выхода за его пределы) – если первоначальное отождествление классовой войны и гражданской войны будет «смещено» и переосмыслено в терминах вклада классовой борьбы и процессов эксплуатации в общую экономику насилия, в которую вносят свой вклад и другие факторы. Поэтому «войны» в их различных формах всегда уже являются «нормальными» средствами политики – но запрос на «другиесредства» ее ведения существует постоянно и потенциально субверсивен.
Перевел с украинского языка Игорь Готлиб
Опубликовано: Спільне, №10, 2016: Війна і націоналізм
Примечания
- Это текст статьи, представленной на семинаре: ‘Los Pensadores de la Crisis Contemporanea: Marx, Weber, Keynes, Schmitt’, Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Valencia, 2–4 December 2009. Он представляет собой отредактированную и несколько сокращенную версию статьи ‘Krieg’ («Война») в: Wolfgang Fritz Haug, Frigga Haug and Peter Jehle, eds, Historisch-Kritisches Wörterbuch des Marxismus, Volume 7/II: Knechtschaft–Krisentheorien, Argument Verlag, Berlin, 2009 ↩
- Лишь в очень немногих местах (прежде всего в брошюре 1851 года «Классовая борьба во Франции») Маркс также использует выражение «Классовая война» (Klassenkrieg). ↩
- Karl Marx and Frederick Engels, The Communist Manifesto, in Collected Works, Volume 6, Lawrence & Wishart, 1976, pp. 477–512. (Рус. пер.: К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., изд. 2-е. Т. 4. М.: Государственное издательство политической литературы, 1955. С. 419–459.) ↩
- A. Bazardet O. Rodrigues, ExpositiondelaDoctrineSaint-Simonienne, Premièreannée (1829), ed. MauriceHalbwachs, MarcelRivière, Paris, 1924. ↩
- Именно эту «родословную» энергично критиковал в конце столетия Эдуард Бернштейн (Die Voraussetzungen des Sozialismus, 1899), чтобы провести демаркационную линию между «рациональной» и «пророческой» стороной марксизма. На самом деле отрицание этой аналогии с гражданской войнойв понимании классовой борьбы станет основополагающим для так называемого «реформистского» крыла марксистского социализма. ↩
- BenjaminDisraeli, SybilortheTwoNations(1845): «Две нации; между ними нет никакой связи, никакого взаимопонимания. Они и знать не знают про обычаи, мысли, чувства друг друга, словно обитают на разных полюсах или живут на разных планетах». (Рус. пер.: Б. Дизраэли. Сивилла. М.: Ладомир, Наука, 2015.) ↩
- Honoré de Balzac, Les paysans. Scènesdelaviedechampagne(написано в 1844 г., опубликовано в 1855 г.). (Рус. пер.: О. де Бальзак. Крестьяне. В кн.: О. де Бальзак. Собрание сочинений в 10 т. Т. 9. М.: Художественная литература, 1986.) ↩
- [1] Есть, однако, одно исключениедля этого отказа от формулы, отождествляющей «классовую борьбу» и «классовую войну»: отрывок из первого тома «Капитала», где борьба за законодательное ограничение рабочего дня в Британии начала XIXвека описывается как «продолжительная, более или менее скрытая гражданская война между классом капиталистов и рабочим классом»; это на самом деле ключевой момент для исчерпывающего обсуждения «модели политического как войны» у Маркса. См.: “Fin de la politique ou politique sans fin? Marx et l’aporie de la ‘politique communiste’” («Конецполитикиилиполитикабезконца? Маркс и апория «коммунистической политики»») – мой доклад на конференции: A160 añosdelManifiestoComunista. Relecturas del pensamiento de Marx, Universidad Diego Portales y Universidad Arcis, Santiago de Chile, 26–28 November 2008,http://stl.recherche.univ-lille3.fr/seminaires/philosophie/macherey/macherey20082009/Balibar_17122008.html ↩
- [1] Это верно даже в отношении недавней идеи «молекулярной гражданской войны», выдвинутой Гансом-Магнусом Энценсбергером: Hans-Magnus Enzensberger, Aussichten auf den Bürgerkrieg, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1993. ↩
- См.: V. I. Lenin, Left-Wing Communism, an Infantile Disorder, 1920. (В. И. Ленин. Детская болезнь «левизны» в коммунизме. Полн. собр. соч., изд. 5-е. Т. 41. М.: Издательство политической литературы, 1981. С. 1–104.) ↩
- Это, конечно, было совершенно затемнено в институционализированной форме диктатуры пролетариата, созданной Сталиным. ↩
- Здесь мы должны с прискорбием отметить, что убийство Розы Люксембург, совершенное руками фашистских вооруженных формирований по поручению социалистического правительства Германии, не позволило ей принять участие в дискуссии об этой политике: она поддержала русскую революцию против ее реформистских критиков, в то же время неявно отвергая модель диктатуры пролетариата как «затяжной гражданской войны». ↩
- Carl Schmitt, Die geistegeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus, 1923; Der Begriff des Politischen, 1927/1932. (Рус. пер.: К. Шмитт. Духовно-историческое положение сегодняшнего парламентаризма. http://velesova-sloboda.vho.org/archiv/pdf/schmitt-duhovno-istoricheskoe-polozhenie-segodnyashnego-parlamentarizma.pdf; К. Шмитт. Понятие политического. Вопросы социологии, 1992, № 1.) ↩
- Antonio Gramsci, ‘Situazioni. Rapporti di forza’, Quaderni del Carcere, vol. 2, ed. Valentino Gerratana, Edizione critica dell’Istituto Gramsci, Turin, Einaudi, 1975, pp. 1578–88. (Рус. пер.: А. Грамши. Анализ ситуации Соотношение сил.В кн.: А. Грамши. Избранные произведения в 3 т. Т. 3. Тюремные тетради. М., Издательство иностранной литературы, 1959. С. 161–174.) ↩
- За это он получил в кругу семьи и друзей прозвище «Генерал». Ср.: Friedrich Engels, Revolution und Konterrevolution in Deutschland, 1851–1852, Marx–Engels Werke, Dietz Verlag, Berlin, 1988, Bd. 8, S. 5–108. ↩
- Речь идет о Крымской войне, войнах между Италией и Австрией, Австрией и Германией, Германией и Францией, колониальных экспедициях в Афганистане и Китае и т. д. ↩
- Friedrich Engels: articles from 1860 for the New American Cyclopaedia(see vol. 14 of Marx–Engels Werke, Dietz Verlag, Berlin, 1961). (Рус. пер.: К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., изд. 2-е. Т. 14. М.: Государственное издательство политической литературы, 1959. С. 5–394.) ↩
- А также начальные шаги по направлению к первой мировой войне, которую Энгельс верно предвидел. См.: Herfried Münkler, ÜberdenKrieg. Stationender Kriegsgeschichteim Spiegelihrertheoretischen Reflexion, Velbrück Wissenschaft, Weilerswist, 2002. ↩
- Rosa Luxemburg, Die Krise der Sozialdemokratie(1914), Gesammelte Werke, Dietz Verlag, Berlin, 1975 («брошюра Юниуса»). (Рус. пер.: Роза Люксембург. Кризис социал-демократии. С приложением статьи Н. Ленина. М.: Красная Новь, 1923.) ↩
- См.: E. P. Thompson, Exterminism and Cold War, Routledge, London, 1982. ↩
- Rudolf Klement, ‘Les tâches du prolétariat pendant la guerre’ (1937), http://www.pouvoir-ouvrier.org/archives/klement.html ↩
- Frantz Fanon, Les damnés de la terre, Paris, Maspero, 1961; Ernesto ‘Che’ Guevara, La guerra de guerrilla, Imprenta Nacional, Havana, 1960 (рус. пер.: Э. ЧеГевара. Партизанская война. М.: АСТ, 2010). ↩
- «Марксистско-ленинская теория войны рассматривает характер каждой войны в зависимости от ее политического содержания» – где «политическое» означает интересы классов и государств («Большая советская энциклопедия», изд. 3-е. М., 1970–78). ↩
- Как признавал ряд комментаторов, включая Раймона Арона: Raymond Aron, Penser la guerre, Clausewitz, Gallimard, Paris, 1976. ↩
- Указаниями на это я обязан Кристофу Ому, который рецензировал мою статью для Historisch-kritische Wörterbuch des Marxismus(HKWM). Он ссылается на диссертацию Чжан Юань-Линя: Zhang Yuan-Lin, Mao Zedongund Carlvon Clausewitz. Theorien des Krieges. Beziehung, Darstellung und Vergleich, Dissertation, Universität Mannheim, 1995. ↩
- Возникавшие на этой почве стратегические споры касались, в неразрывной связи, вопросов «классовой базы» антиимпериалистического повстанческого движения (тем самым – генеалогии, связывавшей его с вековыми традициями народных восстаний и нарушений закона) и альтернативы чисто «политического руководства» (которому подчинены вооруженные отряды революции) и «военно-политического руководства», в котором политическое «временно» приняло форму военного командования; так оказались противопоставлены «маоистская» и «кастроистская» (на практике скорее «геваристская») концепции революционной войны. Régis Debray, Révolution dans la révolution, Maspero, Paris, 1967; La critique des armes I et II, Editions du Seuil, Paris, 1974. ↩
- Ср.: Giacomo Marramao, Dopo Il Leviatano. Individuo e comunità, Bollati-Boringhieri, Turin, 2000. ↩