Интервью с Эриком Оноблем
Предисловие Максима Казакова
Когда западный историк пишет об Украине, это всегда вызывает у нас значительный интерес. Вооруженный современным теоретико-методологическим инструментарием, свободный от господствующей в Украине идеологии заграничный ученый из отечественного материала может сделать такие выводы, которые будут питать украинскую историографию с десяток лет. После падения «железного занавеса» этим веяниям с Запада продолжают препятствовать языковой барьер и суровость тамошнего копирайта. Благодаря сотрудничеству издательства «Ніка-Центр» и посольства Французской республики в Украине таких проблем не будет с научными трудами Эрика Онобля, доцента Женевского университета, доктора истории парижской Высшей школы социальных наук. Их перевел с французского языка известный украинский переводчик и политический философ Андрей Репа.

Западный историк, который пишет об Украине — это, безусловно, уже очень интересно. Не каждый раз этот историк — марксист, а тем более не всегда тема его исследований расположилась в самом начале исторического периода, отмеченного в современной Украине клеймом декоммунизации. Итак, приезд Эрика Онобля был настоящим тройным бинго, и 26 апреля мы отправились на его выступления в Киеве.
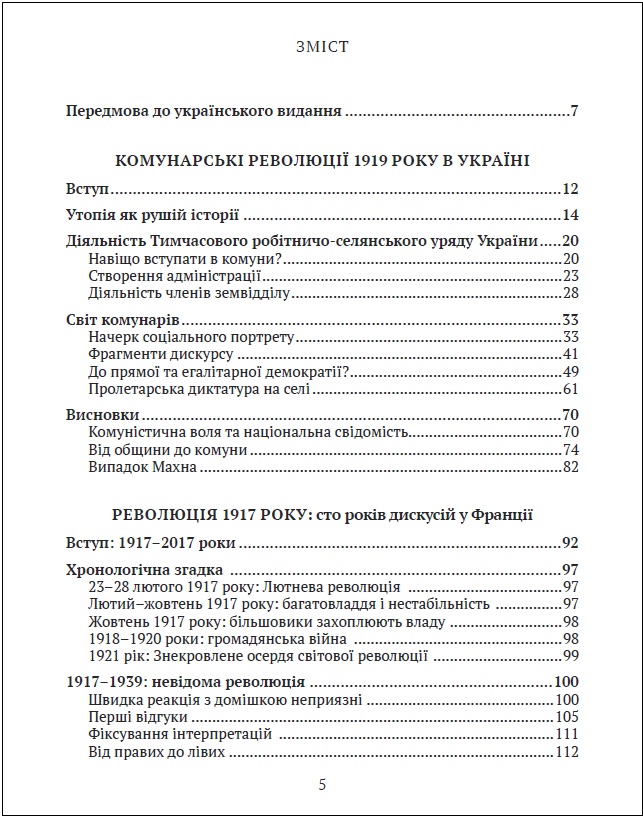
Изданная в Украине книга состоит из двух частей, из двух разных исследований, разделенных 8 годами научного труда (2008—2016).
В КПИ Эрик Онобль прочитал лекцию по первому из них — «Коммунарские революции 1919 года в Украине»[1]. Речь велась о коммунах — коллективных крестьянских хозяйствах, которые подразумевали совместное владение и пользование землей, домашними животными, инвентарем, жилыми и хозяйственными помещениями. Коммуны создавались в конфискованных помещичьих имениях после второго установления советской власти в Украине (провозглашение Украинской Социалистической Советской Республики — 10 марта 1919 года), а исчезли с приходом белогвардейцев (вступление войск Деникина в Киев — 31 августа того же года).

В своей работе Онобль разбирает коммуны Харьковской губернии слой за слоем, мелкие, микроисторические детали соединяет с широким контекстом событий и структурных изменений. Он делает это в лучших традициях французской историографии, известных читателю по, скажем, книге «Монтайю, окситанская деревня» Эммануэля Ле Руа Ладюри. После нескольких десятков страниц столь всестороннего разбора жизни коммунаров начинаешь понемногу понимать их, ощущать 1919 год, смотреть на историю с их позиции — снизу, а не с навязанной нам перспективы — сверху и с приличного расстояния между прошлым и современностью. Можно лишь сожалеть о том, что в украинское издание вошел сокращенный экстракт, а не полный текст диссертационного исследования Эрика Онобля.

Но и этот сокращенный вариант — ценное приобретение для украинских историков. Восстанавливая жизнь коммун на основе никогда не использовавшихся архивных источников, Онобль тем самым ударяет по мифам, крепко вписанным в украинский национальный нарратив. Во-первых, это свойственное современной украинской историографии националистическое представление о «русскости» коммун, якобы насильственно введенных русской большевистской властью и генетически связанных с великорусской крестьянской общиной. Историография современная — мифы старые, уходящие корнями в расистские теории ХІХ столетия[2].
Онобль указывает на большую распространенность коммун в Украине, чем в России, на преобладание в их составе местных крестьян (иногда рабочих-беженцев с оккупированного белогвардейцами Донбасса), также он доказывает, что коммуны скорее противостояли сельской общине как объединение наиболее угнетенных в общине элементов.
На первые взгляд может показаться странным, что приходится разрушать и мифы, унаследованные от историографии государства, для которого слово «Коммуна» было одним из метафорических имен. Но советская конъюнктура времен «Великого перелома» сформировала представление о сельскохозяйственных (и не только) коммунах как о неудачных экспериментах, неэффективных организациях — чтобы оправдать фактическое уничтожение в 30-х годах этой формы крестьянской кооперации ради торжества сталинских колхозов. Онобль подчеркивает фундаментальное различие, существующее между коммунами и колхозами, между революционным творчеством масс 1919 года и принудительной коллективизацией 1930-го.
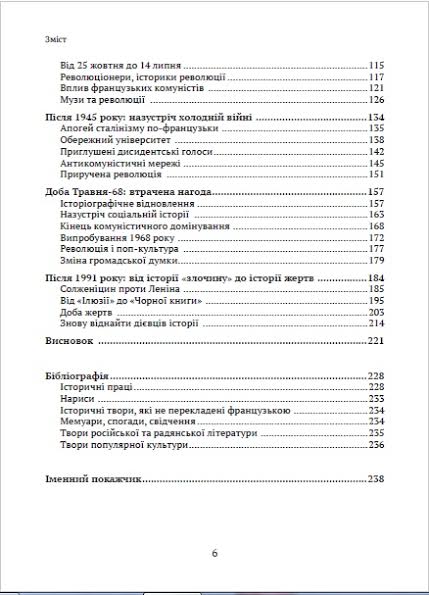
Во второй работе — «Революция 1917 года: сто лет дискуссий во Франции» — Онобль описал, как на его родине формировались и трансформировались представления о социалистической революции на другом конце Европейского континента, как накапливались и преобразовывались общественные и научные знания об этих событиях и их последствиях. Онобль указывает на вклад, который французская историография внесла в понимание 1917 года и советского строя. Но история французских дискуссий о нашей революции — это в первую очередь история влияния внутренней и внешней политики во Франции на историческую науку, искусство, журналистику. Поэтому монография Онобля может стать для современного украинского читателя полезным пособием по пониманию стремительной политической инструментализации перечисленных сфер общественной жизни.
Представление этой части издания прошло в Киевском Доме Книги в несколько ином формате. В роли дискуссанта был приглашен один из лучших украинских специалистов по периоду 1917–1939 годов, в том числе и по коммунам 1919 года[3] — профессор Станислав Кульчицкий. Стоит признать, что на фоне национализма воспевателей ОУН-УПА и академической аполитичности массы украинских историков профессор Кульчицкий со своим твердым либерализмом вызывает у нас даже определенную симпатию. Почтенный старец прямо-таки светится верой в то, что доказывает, несмотря на все повороты на 180° в своей научной биографии.
Профессор Кульчицкий начал свое выступление с антикоммунистической тирады, напомнив аудитории, что частная собственность (в ее буржуазной форме) — это святой краеугольный камень цивилизации, что Ленин подготовил преступный план захвата власти еще в 1916 году, о трагедии расказачивания и так далее. Было заметно, что свой антикоммунизм член КПСС с 31-летним стажем регулирует соответственно последним веяниям в верхних слоях атмосферы. Сегодня это привкус austerity[4] и рыночного фундаментализма. Государство, оказывается, ничего не должно предоставлять своим гражданам, противоположное мнение — совок.
Доктор Онобль успел опровергнуть часть аргументов своего оппонента. Французский гость отметил, что значительное присутствие государства в экономике и социальной сфере не обязательно приводят к уменьшению политической демократии: Франция в послевоенное «славное тридцатилетие» — наилучший тому пример. Онобль также указал на то, что не стоит выводить причинно-следственные связи исключительно ретроспективно, опираясь на наше знание того, что случилось после исследуемых нами лет. История не детерминирована на 100%. Нам следует изучать историческое прошлое как современность, которая уже прошла, а современность всегда содержит в себе множественные варианты развития. Иными словами, 1917 год нельзя объяснять исключительно на основе 1937 года.

К сожалению, полноценных дебатов между экс-марксистом-ленининстом и заграничным неомарксистом не произошло. Оппоненты общались на разных научных языках. Профессор Кульчицкий, кроме того, что выдал ряд общетеоретических единоправильных утверждений, тщательно прошелся по всем неудачным транслитерациям и пропущенным запятым издания. К конкретным научным проблемам, затронутым Оноблем в своих книгах, он не снизошел. Опять-таки посмотреть на коммуны «снизу» для воспитанника советской ортодоксии и выходца из советского среднего класса — задача, возможно, непосильная.
На следующий день мы посетили доктора Онобля в гостинице, чтобы продолжить завязавшийся накануне разговор. Из окна номера открывается тревожный для любого человека, разбирающегося в истории Украины, вид.

Эрик отмечает, что за год, который прошел с момента его прошлого посещения Киева, на памятнике повстанцам 1905 года, установленному на территории КПИ, исчезла надпись о совете рабочих депутатов.

Мы удивляемся несправедливости исторической памяти и переходим к моим вопросам. За помощь в транскрибировании интервью искренне благодарю моего коллегу Вадима Назаренко. Фотографии во время интервью любезно сделаны Диной Артеменко (VECTOR.media).
Максим Казаков: Как вы уже могли заметить, современная украинская историческая наука если говорит об Октябре, то описывает его как переворот или как событие реакционное, уничтожившее прогрессивные достижения Февральской революции. По‑вашему, что можно назвать достижениями революции и именно Октябрьской революции для Украины, России, для всего мира? Что такого принес Октябрь, что не исчезло в более длительной перспективе?
"Я бы сказал, перефразируя слова Маркса о Парижской коммуне, что главным достижением Октябрьской революции было ее существование как таковой."
Эрик Онобль: Что сохранилось от Октября? Видимо, очень мало в плане экономики и общества. Большинство достижений исчезли еще до 1991 года. В плане идей еще меньше сохранилось. И это касается не только Украины. Во Франции все еще господствует резко отрицательный взгляд на революции — пример тому «Черная книга коммунизма». Однако в последнее время идет определенный поворот обратно — к переоценке этого события и его последствий. Сам термин «достижения», по-моему, несколько проблематичен, потому что долгие годы в Советском Союзе и за его пределами хвалили достижения Великой Октябрьской социалистической революции, такие как построение современной промышленности в отсталой стране. Результаты революции измерялись тоннами чугуна и стали. Но когда мы говорим об этом, то мы уже говорим не о революции, а о построении советского режима. Поэтому я бы сказал, перефразируя слова Маркса о Парижской коммуне, что главным достижением Октябрьской революции было ее существование как таковой. Важен тот процесс, который начался до Октября и продолжался вплоть до 1918—1919 годов, в зависимости от места, от социального слоя, когда низшие классы общества взяли в руки власть на заводах, в сельских общинах, в воинских частях и так далее.
МК: В своей книге вы называете главным фактором, загубившим в принципе проект сельскохозяйственных коммун, определенную инертность крестьянских масс. Если взять существующие концепции послеоктябрьского Термидора, то акцент в них делается на влиянии международного положения советских республик, на бюрократии, на мелкобуржуазном элементе, который влился в Коммунистическую партию во время «ленинского призыва». Вы же обращаете внимание на инертность народных масс, на то, что широкие массы вполне могут быть реакционными: до какого‑то момента они признают революцию, а потом хотят ее остановить.
ЭО: Все эти факторы, о которых вы сказали, — очень важные элементы объяснения. В своей диссертации о коммунах я по большей части работал в масштабах микроистории. Меня поразил тот факт, что, несмотря на победу большевиков в гражданской войне, все равно шла страшная контрреволюция вне политических контрреволюционных течений. Речь идет не о деникинцах, петлюровцах или еще ком-либо. Контрреволюция была на местах. Когда большевики победили в 1920—1921 годах, то в их руках оказалась только центральная власть. В течение гражданской войны все формы прямой демократии и местной пролетарской власти исчезли. И это произошло не столько из-за политики самой большевистской партии, сколько из-за существования всех этих локальных контрреволюций. Это положение составляет основное различие между моим подходом и подходом «Черной книги коммунизма»[5] и господина Кульчицкого. Благодаря такому подходу можно уточнить общую картину, например бюрократизацию, потому что это не только проблема профессиональных революционеров дореволюционной закалки, но и тех людей, которые стали профессиональными революционерами во время гражданской войны. В эти годы чувствовалось огромное напряжение, вызванное наличием у революции множества врагов. В таком напряжении жизнь вне аппарата для революционера становилась практически невозможной. Судьба коммунаров после похода Деникина показывает, что жить как коммунист вне аппарата партийного и государственного было невозможно.

Источник: Сайт Эрика Онобля
Я не согласен, что это проблема инертности масс. Это не инертность. Наоборот, эти крестьянские массы оказались очень активными. Они постарались добиться того, чего хотели с самого начала — раздела земель в рамках сельской общины. «Пусть будет центральная власть, но она пусть не трогает наши внутренние дела в общине», — так рассуждали крестьяне. Это не инертность, это другая революция, которая все же не имела больших шансов при любом режиме в центре. Тут можно ссылаться на пример Мексиканской революции. В Мексике было всеобщее крестьянское восстание во главе с Панчо Вилья и Эмилиано Сапатой. Восстание не было успешным, поскольку крестьяне, даже радикально настроенные, были не в силах овладеть страной. Поражение революций в Венгрии и Германии, поражение рабочего подъёма, происходившего в ряде других стран Западной Европы с 1917 года (в Англии, Франции, Каталонии в Испании, Италии) — у всего были последствия. Если бы революции в этих странах были успешными, то крестьянский вопрос не стоял бы так остро. В коммунах в 1919 году активно обсуждали немецкую революцию. И если бы она победила, тогда бы общий перевес сил изменился даже в украинской деревне.
МК: Еще один вопрос, который не устают обсуждать историки-марксисты: какой была классовая природа СССР? Каково ваше мнение?
ЭО: Очень простой вопрос, на который я легко отвечу за две минуты (смеется). Скажу сначала несколько слов о классовой природе самой революции. Я все больше и больше настаиваю, что это была настоящая пролетарская революция. И я не повторяю советский шаблон, согласно которому пролетариат — это промышленные рабочие. На самом деле это две категории, которые не совпадают полностью. Это была пролетарская революция, потому что в ней участвовали не только промышленные рабочие, но и батраки, чернорабочие и другие люди, которые тогда считались пролетариями. Последнее очень относительно, потому что крестьянин в 1917 году считался пролетарием по отношению к городскому интеллигенту или офицеру. Потом, когда революция углублялась, внутри общины обнаруживались элементы, которые считались более пролетарскими, чем ее остальные члены: батраки, женщины. Та же история происходила на всех других уровнях с 1917 по 1921 год. Бывший пролетарий занял позицию угнетателя по отношению к новым пролетариям, которых выявил революционный процесс. Из этого получилось своеобразное социальное и политическое образование — Советский Союз, в котором остались черты пролетарского плебейского происхождения. Эти черты сохранились до самого конца.
Очень интересные размышления по этой теме есть у Марка Ферро. В 1984 году у нас во Франции вышла его статья под провокационным названием «В СССР слишком много демократии?». Это была парафраза советской прессы, описывавшей ситуации, когда было неясно, какой аппарат сейчас управляет, конфликты между ведомствами государственного и партийного аппарата по поводу того, кто будет решать эту проблему. Ферро очень правильного заметил, что это наследие самой революции, когда на одном заводе были заводской комитет, депутаты совета, члены народной милиции, члены Красной гвардии, партком и так далее. Думаю, что нельзя понять советское государство, не понимая, какой была революция, несмотря на все дальнейшее вырождение.

Во время работы над материалами начала 1930‑х, тех годов, когда шел большой поток выдвиженцев «благодаря» сталинской политике «великого перелома», я обнаружил письма простых людей, в основном женщин, в журнал женского отдела КП(б)У «Комунарка України». Это были простые крестьянки и работницы, которые ратовали за сталинский строй и которые сами в 1931—1932 годах использовали термин «враг народа» для описания своих врагов в конкретном колхозе или на заводе. В этом потоке люди уже с самого начала находились в положении клиентов государства, а не действующих лиц, как это было в 1917 году. Но все равно выдвигались представители самых низших слоев общества, что редко случалось где-либо еще, кроме Советского Союза. Старая характеристика Троцкого «переродившееся рабочее государство», по-моему, имеет смысл и позволяет до сих пор кое-что понимать в прошлом.
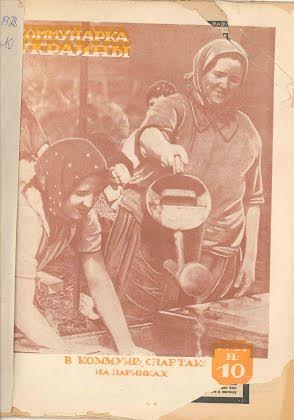
МК: В Украине уже четвертый год идет война. В левой среде происходят дискуссии, как к этому относится. При этом в истории пытаются отыскать какие‑то аналогии. В книге «Революция 1917 года: сто лет дискуссий во Франции» вы упоминаете о меньшинстве французских социалистов, которые занимали антивоенную позицию во время Первой мировой и называли войну империалистической. Но в Украине даже у человека, который в теме, лакуна в познаниях — от убийства противника войны Жана Жореса националистом 31 июля 1914 года до забастовочного движения 1919 года. Расскажите о французских антивоенных левых в годы войны.
ЭО: Меня недавно пригласили в Сорбонну на конференцию, посвященную интерпретациям революции 1917 года. И меня позвали не как историка Украины и СССР, а как историка восприятия революции во Франции. Благодаря этому приглашению я смог осуществить давнюю мечту — поработать над личным фондом одного революционного синдикалиста, Раймона Перика, который организовал первую коммунистическую партию во Франции за полтора года до съезда в городе Туре[6], где была создана официальная компартия. Этот человек — типичный рабочий революционный активист довоенной Франции. Он работал на стройке с 12 лет, в 15 участвовал в своей первой забастовке, в том же году был на похоронах одного генерала Парижской коммуны и вспоминал, что тогда первый раз в жизни пел «Интернационал». Во время первой забастовки полиция первый раз его била, во время другой забастовки его арестовали. Это было в самом начале XX века. Он стал секретарём федерации строителей ВКТ[7] в 1908 году и сразу должен был уехать в Бельгию, потому что Клемансо хотел арестовать все руководство ВКТ после довольно бурных событий под Парижем.
В 1914 году Перика ушел на фронт, говоря, что «у меня был выбор: либо я иду на фронт, либо меня расстреляют». В 1914 году он был уже довольно пожилым человеком (родился в 1873 году). Из‑за тяжёлого труда в молодости у него появился варикоз. Он вспоминал, как один раз немцы стреляли из пулемёта, а он был в чистом поле и не мог ни бежать, ни даже ходить. Вскоре его демобилизовали из армии и он присоединился к группировке «Рабочая жизнь» (революционные синдикалисты), которая создала в конце 1915-го первую левую антивоенную организацию — Комитет за возобновление международных отношений.

Благодаря одному коллеге, который готовит диссертацию о русских политэмигрантах во Франции до и после 1917 года, я видел документы французской полиции, у которой были шпики в этих кругах. Например, я видел отчет о собрании Комитета за возобновление международных отношений, где Перика выступил вслед за Троцким. Интересно, что в комитете оба занимали крайнюю левую позицию. Большинство членов комитета сказало, что Циммервальд[8] — это хорошо, но в таком положении нельзя пропагандировать идеи Циммервальда, это слишком опасно. Троцкий возразил, что «во имя международного социализма — надо», и затем Перика сказал, что «во имя революционного синдикализма — надо!». Это очень интересно, потому что Перика и Троцкий никогда не были близки. Это другие члены комитета (Монат и Росмер) стали близки к Троцкому, а Перика — нет.
Когда произошла Февральская революция в России, Перика ее с энтузиазмом поддержал. Тогда во Франции уже шел подъем забастовок. Ещё до Февральской революции он создал другой комитет — Комитет профсоюзной защиты, где были только профсоюзные активисты. В рамках этого органа Перика выбрали представителем французских антивоенных синдикалистов, чтобы он поехал в Стокгольм, где должна была пройти международная конференция всех социалистов — и антивоенных, и провоенных, и в Петроград. У него был мандат, уполномочивавший его встретиться с представителями Петроградского совета. Но не вышло. Как ни странно, ему не дали визу. Поскольку шел рост забастовок во Франции, у революционера было много работы.
Интересно, что уже в июле 1917 года он вместе с другими синдикалистами и анархистами выступил за большевиков, говоря, что обвинения в сторону июльских повстанцев — это клевета буржуазии. Перика заявил, что социалисты критикуют большевиков, потому что те — единственные социалисты, которые верны своему идеалу.
Ему удалось организовать очередной съезд антивоенного меньшинства ВКТ в апреле 1918 года. Это была попытка установить новое лидерство над французским рабочим движением. После возвращения со съезда Перика арестовали у дверей дома по решению премьера Клемансо. Он пробыл тюрьме 6 месяцев. Его обвинили в получении денег от большевиков на организацию съезда. Это был, конечно, полный бред, потому что в начале 1918 года большевики вообще не были в силах передавать деньги через всю Европу. Перика чуть не умер в тюрьме от гриппа. Он сидел в военной тюрьме с очень строгим режимом. Когда он вышел на свободу, то стал символом французских революционных рабочих. Кстати, в марте 1919 года Ленин на открытии первого съезда Коминтерна сказал, что Перика — это единственный настоящий революционер во Франции. Но тогда было уже поздно. Именно французские власти очень хитро поступили: Перика был на 6 месяцев устранен от дел. Умер бы в тюрьме — было бы хорошо для власти. Он не умер, но был уже не в силах руководить ВКТ.
Тогда, весной 1919-ого года он основал в основном с помощью анархистов свою Компартию, которая была радикальной а маргинальной. Официальная компартия создалась еще через полтора года на базе Соцпартии, не вполне избавившись от перекрашенных социал-патриотов. Когда в 1920-ом году был еще раз подъем рабочих забастовок, похожая история произошла уже с Монатом, которого арестовали перед очередным съездом ВКТ «за комунистический заговор». Это тоже было сфабрикованное дело. Тогда Перика боялся снова попасть в тюрьму и эмигрировал в Италию, а потом отошел от дел и только в конце 1920‑х стал официальным членом французской Компартии.
В его личном фонде я нашел очень интересную вещь: это ответ одному человеку, который написал брошюру о поведении Марселя Кашена по поводу войны. Кашен в начале 30-х был одним из главных лидеров в Французской компартии, а в течение Первой мировой войны он был сторонником Священного союза[9]. Он даже поехал в Россию после Февральской революции, чтобы агитировать народ во имя французских социалистов в пользу «войны до победного конца». Тот человек обратился к Перика, говоря: «Что вы думаете о поведении Кашена в течение войны? Вы были интернационалистом, а он был сплошным национал-предателем». Есть ответ Перика, который говорит: «Дорогой товарищ, ты прав, когда пишешь о поведении Кашена, но я сейчас член Компартии и…». Далее он 10 раз зачеркивал то, что писал. Он не мог оправдать свою позицию. До последнего дня он остался рядовым членом компартии и это очень примечательно, если рассматривать процесс сталинизации западных левых. Потому что Перика не верил в французских троцкистов. Это в первую очередь все те же Росмер и Монат. Перика думал, что они были слишком умеренными даже в 18 году, и поэтому им не верил, поэтому оказался в компартии. Хотя в глубине души остался чистым революционным синдикалистом.
МК: А какая у левых социалистов была антивоенная практика?
ЭО: Открытой пропаганды было мало, потому что проводить ее было очень опасно. Хотя, например, к 1 мая 1917 года антивоенные круги издали листовку, на одной стороне которой было воззвание Петроградского совета. Во Франции эти слова о демократическом мире без аннексий были чем-то… На одной стороне воззвание Петроградского совета, на второй — призыв к демонстрации и слова «Долой войну! Да здравствует международная социальная революция!». И благодаря профсоюзной практике, они имели определенное влияние на рабочий протест, который тогда рос из-за ухудшения условий труда и жизни ради военной экономики.


МК: Не боялись, что французские солдаты воспримут агитацию, сложат оружие и откроют фронт, а немцы войдут в Париж?
ЭО: Был такой случай весной 17 года. Во французской армии была волна бунтов. Это десятки, если не сотни тысяч солдат, которые отказались вернуться на фронт, которые поднимали красный флаг, пели Интернационал, иногда доходило до убийств офицеров. Бунт был в 68 из 110 дивизий французской армии. Клемансо, который стал премьером на фоне этого кризиса, очень хитро поступил. Он был хирургом репрессий. Он хорошо знал, куда бить, а что оставить в покое. Почти 1400 солдатов приговорили на каторгу. Были смертные приговоры для 500 солдат, из которых расстреляли 50 (не говоря об особенно жуткой репрессии против солдатов Русского экспедиционного корпуса во Франции[10]). Он улучшил паек фронтовиков, и все эти волнения успокоились. Поэтому некоторые историки, которые вообще не верят в возможность революции в тогдашней Франции, говорят, что это была просто забастовка фронтовиков и она имела экономический характер.

"Особенно активны были женщины, потому что женщин не пошлёшь на фронт. Они не так боялись бастовать, как мужчины."
Но в то же время были забастовки в Париже. Особенно активны были женщины, потому что женщин не пошлёшь на фронт. Они не так боялись бастовать, как мужчины. Была забастовка парижских текстильщиц — тех, которые шили униформу. В конце XIX века было много романов о таких девушках из провинции, которые работали на фабриках в Париже и мечтали о том, как в их жизни появится молодой красивый буржуа. Именно эти девушки бастовали весной 1918 года. Когда и эти слои рабочего класса бастуют, это что‑то да значит.
Конечно, была военная цензура. Только в «Юманите» говорили об этих забастовках, но ради Священного союза социалистическая газета молчала о их политическом антивоенном характере. Это также объясняет, почему во Франции так мало было информации о революции в России, потому что была и военная цензура, и партийная цензура в прессе соцпартии.
МК: Давайте поговорим об историках и политике. Как вы считаете, историк должен быть политизированным или историку следует отмежевываться от политики, чтобы не стать чересчур ангажированным? В Украине широко известна Группа историков Коммунистической партии Великобритании. Это такие научные величины, как Эрик Хобсбаум, Эдвард Томпсон, Артур Мортон. Были ли левые партийные историки во Франции? О чем они писали? На каком уровне?
ЭО: Что касается позиции самого историка… Во‑первых, я не понимаю, как человек, который считается интеллектуалом, может быть вне политики вообще, особенно, конечно, когда речь идет о современной истории. И, конечно, дело интеллектуала — это идеи. Это так странно звучит, когда критикуют историка за его выступления. «У вас есть идеи? Это плохо». Но если у интеллектуалов нет идеи, у кого она будет вообще?!
Потом, о понятии «ангажированности». Здесь я бы употреблял какое-нибудь другое слово, потому что долгие годы при сталинских компартиях (и не только) существовал тип «ангажированного интеллектуала». Об этом очень интересно в своей книге написал Клод Лефор[11], который когда-то был троцкистом и ультралевым коммунистом, членом группы «Социализм или варварство». Он очень хорошо сказал, что при сталинизме авторитаризм не устанавливался вопреки вступлению интеллектуалов в партию, а наоборот: именно интеллектуалы были довольны, потому что для них это было средство быть во главе чего-то. Например, Франсуа Фюре. Он был членом компартии в 1950-х и занимался контролем других историков в партии.
"Интеллектуалы, которые до сих пор ратуют за равенство и за освобождение от всяких форм доминирования, считаются смелыми только на фоне сегодняшнего общественного регресса и роста реакционных идей в русле или узколобого национализма, или холодного экономического либерализма."
Во-вторых, если сегодня во Франции говорить об ангажированности… Понимаете, несколько месяцев назад у нас приговаривали профсоюзных активистов за свою деятельность к тюрьме. Поэтому я не смею говорить, что я человек ангажированный, когда я делаю свое дело: работаю в архивах, пишу статьи и книги. Это просто мое дело. У меня, может быть, и есть работа на общественном уровне, у меня есть убеждения, идеи, которые я защищаю, но это было бы претенциозно говорить, что я ангажированный историк. Я спокойно преподаю в Женеве. В этом нет никакого мужества. Интеллектуалы, которые до сих пор ратуют за равенство и за освобождение от всяких форм доминирования считаются смелыми только на фоне сегодняшнего общественного регресса и роста реакционных идей в русле или узколобого национализма, или холодного экономического либерализма.
Во Франции были историки при Французской компартии, но они не отличались оригинальностью мысли. И поэтому во Франции всегда была эта нездоровая ситуация, когда люди, будучи официальными представителями компартии, защищали позиции партии до абсурда, и когда в конце концов они вышли из партии, то стали жуткими антикоммунистами. Вся эта волна: Франсуа Фюре, Стефан Куртуа (не был членом компартии, но был маоистом). По-моему, для них компартия была средством получить какой-то престиж, и когда они вышли из компартии – это была ради такого же престижа. А вне компартии был, например, Марк Ферро – он левый, но довольно умеренный. При этом у него есть крепкие убеждения. Он специалист по истории СССР. У нас есть Жан-Жак Мари – троцкист, который первую, популярную и интересную историю гражданской войны написал на французском языке. Очень скоро у него выйдет история белого движения. Прошло 20 лет с тех пор, как сказали, что был красный террор и были белые ангелы на другой стороне, и Мари решил написать книгу о белом движении, о белом терроре.
МК: Могут ли историки, несмотря на разницу во взглядах, сохранять корпоративное единство как сообщество ученых? Ведь это необходимо, чтобы противостоять вмешательству государства в науку и наступлению квазиисториков.
ЭО: Во Франции такое единство существует. Например, реакция на проект Саркози[12] была не только со стороны левых. Здесь возникает другая проблема. Именно из-за корпоративной деонтологии историки реагируют исключительно в сфере своих узких академических интересов. Был недавно случай, о котором вы, наверное, слышали. Проходила в Париже конференция в пользу «диалога и примирения между евреями и украинцами» под названием «Шоа в Украине. Новые перспективы трагедии ХХ столетия» с присутствием Вятровича. Я знаю людей, которые присутствовали. Все они были в шоке от того, что там было сказано, и от низкого научного уровня многих выступлений. Они также были в шоке от реакции зала, потому что большинство оказались соучаствующими украинскому национализму. Были очень неприличные намеки на евреев, и в зале засмеялись. А на трибуне очень серьезно обсудили тему «жидовского большевизма». Типа – «вот, это научная тема». Но до сих пор не было официальной реакции, потому что каждый говорит: «Да, но я не специалист по Украине, значит, я не могу сказать». И это страшно. Ведь на другой стороне люди, которые не специалисты ничего, они и организовали эту конференцию. Довольно интересно посмотреть на список литературы организаторов такого мероприятия. Если они могут организовывать такие конференции о Второй мировой войне в Украине, то я могу организовать о доколумбовыx цивилизациях. А на другой стороне звучит: «А, я же не специалист, я не буду говорить. Я слышал страшные вещи, но так, как не могу ссылаться на такой список научной литературы, то я не буду комментировать». Организаторы до сих пор говорят, что это было очень хорошо: вроде бы это показало, что проблем больше нет, что украинский национализм чист от всякого антисемитизма. И есть те, которые видели, что это не так. У меня был отклик от одного очень известного французского историка, который был в шоке. Но в итоге он сказал: «Не буду ничего говорить публично, я историк французского общества. Не имею права говорить, когда обсуждают украинскую историю».
Я знаю, что несколько украинских изданий написали об успешном выступлении Вятровича на той конференции[13]. Но это был триумф Вятровича в чисто советском виде. Я помню, как было во Франции 1970‑х. Когда местные сторонники Брежнева хотели что-то организовать, они нашли старого летчика эскадрильи «Нормандия-Неман», нашли бывшего министра времен президента де Голля, нашли какого-то либерального историка. Потом подтянулись все попутчики Компартии и представители советского посольства, а в итоге потом говорилось, что прошла очень демократическая конференция. Я помню те времена. Советизм — это одно, а постсоветизм иногда бывает похожим на него, но не лучше. До 1991 года у нас были свои 200-процентные французские сталинисты, затем брежневцы и даже маоисты. По крайней мере, это было ради универсальной идеологии. А теперь, уже после распада Советского Союза и «капитализации» Китая, как ни странно, во Франции есть 200-процентные пророссийские активисты и 200-процентные проукраински настроенные активисты. Они действуют ради каких-то изысканных геополитических фантазий. И, кроме флага, я не вижу разницы между одними и другими.

МК: Что из современной литературы, написанной в духе исторического материализма, вы рекомендуете читателям журнала «Спільне»?
ЭО: Я буду говорить о франкоязычных книгах. Есть Энцо Траверсо, который уже долгое время работает над историей идей XX века, занимается проблематикой тоталитаризма, насилия, войны, пишет о судьбах интеллектуалов левого движения, в частности, левых еврейских интеллектуалов. У него есть очень и очень интересные книги. По-моему, это один из редких историков во Франции сейчас, который откровенно говорит, что он марксист и что принадлежит к традиции радикального и критического мышления. Я думаю, что именно он смог бы быть очень полезным для постсоветского пространства.
Есть также мой научный руководитель — Мишель Рио-Сарсе, специалистку по XIX веку во Франции, по революции 1848 года, по утопизму и сенсимонизму. Она была одним из первых историков во Франции, опиравшихся на понятия гендера не в смысле защиты прав женщин (при этом она, конечно, защищает права женщин). Для нее гендер — это не дело женщин, а способ изучения структуры любого доминирования. Она одной из первых во Франции начала опираться на Вальтера Беньямина, задолго до того, как это стало модно. Сейчас ты не можешь выступить на интеллектуальном семинаре, если у тебя нет цитаты этого философа. Рио-Сарсе меня «заставила» читать «Тезисы о философии истории» Беньямина, если не ошибаюсь, уже в 1995 году. Она неоднократно устраивала семинары на эту тему. У нее очень интересный подход. Я опирался на его понятие о том, как написать историю, которая не будет историей победителей; как написать историю вопреки созданному курсу общей истории; как возродить все эти возможности, которые существовали в определенный момент и которые сразу исчезли. В этом духе Рио-Сарсе опубликовала «Реальность утопии: эссе о политическом в XIX веке» в 1998 году. Недавно у нее вышла книга под названием «Процесс свободы: подпольная история XIX века во Франции». Я постарался писать свою книгу про коммуны 1919 года в этом же духе.
МК: Спасибо, Эрик, за уделенное нам время.
ЭО: Большое и вам спасибо. Успехов! Будьте осторожны. Здесь быть левым историком — это не то же, что быть левым историком в Женеве или Париже.
МК: Так и есть. Но это наша обязанность, наверное. Украина начиналась с историков. С Костомарова, к примеру. И причем — с левых историков. Всего доброго!
Говорил Максим Казаков
Примечания
1. Полную видеозапись лекции можно посмотреть здесь: [link]↩
2. В ті ж самі XII роковини Шевченка, коли читав свою промову проф. Огоновський у Львові, в Цюріху кілька русинів із Галичини зібрались теж святкувати роковини Шевченка, і д. С. С. виставляв як «головні признаки руського (українського) характеру, спільні з польським індивідуальність і сильну любов родини», напроти тих німців, які, дивлячись на цюріхських «росіян», уважали й русинів «eine russische Fraction von nihilistisch-kommunistischen Färbung» (це мусить бути московська партійка нігілістично-комуністичної барви). Для того, хто знав тодішнє життя слов’янської молодіжі в Цюріху і польський музей гр. Плятера на цюріхському озері, де директором був звісний д. Духинський і де намальовано на стіні картину Східної Європи, на якій було написано, що «туранська Московщина» має ознаки: неволю й комунізм, а «арійська Польща з Руссю» — волю й індивідуальність, хто знав, як неприхильно дивилась більша частина цюріхських поляків на студентів і студенток із Росії, на їх «нігілізм, соціалізм, космополітизм» і т. ін., для того тільки й стане ясною промова галицького оратора в Цюріху (Драгоманов, М. Шевченко, українофіли й соціалізм).↩
3. Кульчицький, С. В. «Комунізація українського села». В: Енциклопедія історії України: Т. 4. Доступ 17.05.2017 за адресою: [link]↩
4. Политика жесткой экономии. — прим. ред.↩
5. Своеобразный справочник преступлений коммунистических режимов, изданный коллективом французских историков-антикоммунистов в 1997 году. Заметна тенденция к завышению количества жертв.↩
6. В декабре 1920 года состоялся XVIII съезд SFIO (Французской секции Рабочего интернационала), на которой получило главенство левое крыло партии и было решено вступить в Коминтерн.↩
7. Confédération générale du travail (Всеобщая конфедерация труда) — самый большой профсоюзный центр Франции.↩
8. Международная социалистическая конференция в швейцарском Циммервальде (сентябрь 1915 года), которая объединила антивоенных левых как из стран Антанты, так и центральных государств, а также нейтральных стран. Конференция приняла манифест, предложенный Л. Троцким, который призывал всех левых «начать борьбу за мир без аннексий и контрибуций».↩
9. L’union sacrée — проправительственная широкая коалиция от социалистов до монархистов, созданная в начале войны. Поддерживала войну «до победного конца».↩
10. Ля Куртин. Доступ по 17.05.2017 по адресу: [link]↩
11. Французский политический философ, исследователь тоталитаризма.↩
12. Страх побачити, як знову повертається консенсусна історія, підштовхнув французьких істориків у 2011 році виступити проти створення інституту національної пам’яті «по-французьки», так званого Будинку історії Франції,який мав намір створити колишній президент Ніколя Саркозі (Онобль, Э., 2016. Революція 1917 року: французький погляд. Київ: Ніка-Центр, с. 9.).↩
13. див. Сірук, М., 2017. «Про деконструкцію міфів». В: день. Доступ 17.05.2017за адресою: [link]↩



