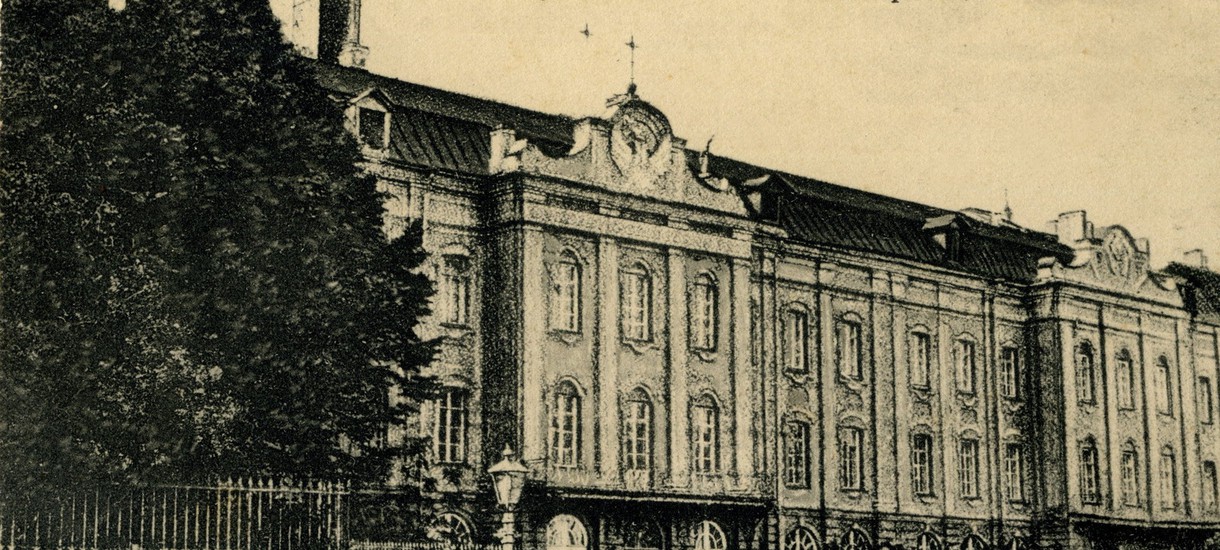«Спільне» публикует текст лекции редактора российского интеллектуального журнала “Новое литературное обозрение” Александра Дмитриева, прочитанной им 18 декабря 2009 г. в Киеве в рамках серии публичных дискуссий “Революционные моменты” в Киево-Могилянской Академии. Согласно с рядом теорий прогрессивная интеллигенция играла важную, а иногда и решающую роль во многих революциях, в том числе и в Российской империи в 1917 г. Нас этот вопрос интересует не только с познавательной точки зрения. Поняв, какие процессы происходили в кругах интеллектуалов и университетских институциях во время революцойнных событий в начале прошлого века, мы сможем понять, чего не хватает интеллигентам сегодня.
История возникновения и распространения социально-политических идей в том или ином обществе в определенный период неотъемлема от истории общественных институтов, через которые и распространяются эти идеи. Речь идет, прежде всего, о «местах знания» – как формальных (университеты), так и неформальных (кружки и т.п.) учреждениях, где рождаются и распространяются определенные идеи, именно в этих особых местах новые течения и концепции завоевывают себе сторонников, которые их активно осмысляют, творчески развивают и популяризируют в более широких кругах.
Например, в университетах Веймарской Германии, пропитанной консервативно-националистической атмосферой, марксизм как интеллектуальная мода мог появиться только как вызов, не в последнюю очередь благодаря деньгам Германа Вайля – «миллионера, захотевшего исследовать причины нищеты, одной из которых является он сам», по едкому определению Бертольта Брехта. Сын Вайля Феликс стал одним из основателей и спонсором Института социальных исследований, на основе которого возникла знаменитая Франкфуртская школа – неформальное объединение философов и социологов, творчески переосмысливших положения ортодоксального марксизма и вдохновивших социальные движения 1960-1970-х гг.
Вызывают интерес эти «земные истоки», то есть конкретный интеллектуальный и социальный контекст, который позволяет функционировать и меняться идеологиям и научным тенденциям, именно этот контекст организует научное и социальное знание. И меня в последние годы, в связи с интересом к нашим университетам, особенно интересует — что произошло в этом небольшом по общесоциальным меркам, но интеллектуально очень насыщенном мире, где в январе 1917 г. профессора встречали Новый год под портретами императора, а в декабре того же года ожидали Учредительного собрания в разделенной империи, под властью крайне левой партии, состоявшей из совершенно неизвестных им людей, без денег, которые они привыкли исправно получать, руководствуясь штатным расписанием, утвержденным еще в 1884 г.?
Чтобы исследовать этот слом, необходимо обратиться к интеллектуальной истории России (и Украины) 1905-1922 гг., изучить тогдашнюю статистику школ и гимназий, структуру университетского образования, пертурбации в Академии наук (сначала Императорской, потом – Российской, будущей всесоюзной академии наук).
Казалось бы, за это время в интеллектуальной истории как таковой изменилось на деле немногое: и в 1905 и в 1918 г. продолжали спорить, печатать статьи и манифесты Павел Милюков, Виктор Чернов, Владимир Пуришкевич и его единомышленники-черносотенцы, Юлий Мартов и Владимир Ленин. Но в системе образования, рассмотренной шире, произошла целая серия сдвигов, порой тихих и незаметных, в итоге изменившая всю систему. Для интеллектуальной истории важны не только фронтальные реформы и перемены, но и малозначительные, на первый взгляд, документы и события: историю идей (особенно в контексте биографий) мы вправе рассматривать не только на уровне манифестов и доктрин, но также и с точки зрения «квитанции из прачечной».
В начале ХХ в. пирамида «мест знаний» в Российской империи была крайне далека от совершенства. Она опиралась на очень широкую, но все таки недостаточную сеть учреждений начального образования и средних школ, затем следовал очень сильный количественный перепад, и о подлинно европейском уровне можно было говорить только относительно высшего образования и академического знания. Система образования, по оценкам современников, находилась в перманентном кризисе. Вся пирамида была крайне неравномерно распределена географически и очень сложно устроена иерархически. Она была полна классовых и сословных барьеров, унаследованных еще от ХІХ в. (в том, что касалось, например, приема в университет евреев, женщин, да и тех, кому не посчастливилось закончить классическую гимназию). Эти препоны поддерживались исходя из охранительной идеологии власти, которая имела самое непосредственное отношение к производству знания, особенно в гуманитарной и социальной сферах. Все, что было связано с социально-политическими идеями (любыми, не говоря уж о марксизме), подвергалось строжайшему контролю и опеке властей.
В конце 1904 г. в ходе т.н. «банкетной кампании» земских либералов появилась записка профессоров и преподавателей императорских университетов, к которой также присоединились многие публицисты и интеллектуалы. В историю она вошла как «Записка 342-х», но после первоначальной публикации подписей стало больше тысячи. Авторы обвиняли царское правительство в том, что оно препятствует делу просвещения в России. Указывались конкретные примеры: распределение школьных мест, ограничения прав на образование для целых социальных и национальных группи т.д. Подписали документ и несколько ординарных академиков. Когда он попал в газеты, президент Императорской академии наук Константин Романов, (исповедовавший в целом либеральные взгляды и обычно защищавший академиков) был сильно раздражен и отправил этим «подписантам» весьма злое письмо. Дескать, если вы так относитесь к господствующей власти, то почему бы вам не отказаться от жалованья, выплачиваемого вам регулярно столь неправедной властью? Академики, разумеется, оскорбились, президенту пришлось потом извиняться, но проблема осталась. Все преподаватели высших учебных заведений и большинства школ состояли на государственном жаловании и, выступая за реформу крайне косной самодержавной политической системы, играли на руку тем революционным тенденциям, которые в конце концов подрывали их собственный статус госслужащих. Все они (даже радикальные приват-доценты, пишущие в марксистские журналы, даже большевики) были вписаны в табель о рангах и получали деньги от критикуемой ими системы. Это не обвинение в близорукости или желании «подпиливать ветку, на которой сидишь», а иллюстрация одной из главных проблем интеллектуальной жизни в России того времени: крайней степени ее огосударствления.
Как раз с 1905 г., и это тоже был важный поворот, началось создание приватных высших учебных заведений (особенно известными стали Университет имени Шанявского в Москве или Психоневрологический институт под руководством Владимира Бехтерева в Петрограде). Это позволяло интеллектуалам, исповедовавшим левые или либеральные политические взгляды, избавиться от обуздывающей привязки к тому строю, который они стремились полностью преобразовать. Эта дилемма – содействовать ли тем силам, которые разрушают существующий строй (включая тех же студентов, среди которых преобладали левыеенастроения) или всеми силами держаться за власть, которая, дескать, одна только и защищает «людей мысли» от «ярости народной» (как писал автор «Вех» Михаил Гершензон) – перед радикальной профессурой стояла весьма остро. Они были привязаны не только к государственным институтам, но и ко всей социальной жизни царской России. Поэтому, с одной стороны, революционная стихия виделась им как нечто желанное, но с другой стороны, было непонятно, что она сулила в будущем. Эти два начала – неприязнь к старой власти и опасение радикальных изменений, которые могут разрушить привычное интеллектуальное поле – отчетливо прослеживаются в кадетской и левокадетской публицистике 1905-1920 гг. Либеральные интеллигенты боялись как «черной сотни», так и «красной сотни».
Впрочем, сама академическая среда не была однородной. Внутри нее были расхождения, основанные, в том числе, и на социальных различиях. В Германии эти противоречия вылились в противостояние ординарных профессоров и молодых, лишенных статуса приват-доцентов – правда эти последние все более склонялись в сторону правого радикализма и даже фашизма. В России этот конфликт был еще более ярким. В профессиональном Академическом союзе, созданном в 1905 г., довольно быстро выделились две отчетливые фракции: ординарных профессоров, которых в первую очередь интересовала бесперебойность учебного процесса, и молодых приват-доцентов, которые хотели пересмотра штатов. Симптоматично, что профессора в основном были кадетами и октябристами, тогда как среди приват-доцентов было много левых, сотрудничавших с эсерами и иногда даже с социал-демократами. Такое расслоение было определяющим для развития всей интеллектуальной жизни вплоть до 1917 г. и последующих событий.
Было еще и студенчество, которое, в отличие от европейских студентов, не успело обуржуазиться и несло в себе мощный революционный потенциал – настолько мощный, что его стремилось сдерживать не только государство, но и профессора. Так, в 1905-1907 гг. университеты в России практически не работали. Постоянно шли забастовки, а когда их не было – университеты боялись открывать сами чиновники и преподаватели.
Из-за этого, кстати, многие молодые люди, родившиеся в конце 1880-х гг., особенно евреи, отправились учиться в европейские технические школы и высшие учебные заведения. Передовое образование и прогрессивные взгляды, усвоенные на Западе, пригодились этим людям (среди которых был, например, «отец советской физики», учитель Ландау и Курчатова Абрам Иоффе) после 1917 г., когда они вернулись на родину, обладая уже высочайшим статусом и получив колоссальные возможности самореализации. При новой власти они получили такие должности, на которые никогда бы не могли рассчитывать при старом режиме. Эта молодая поросль радикальных приват-доцентов играла чрезвычайно важную роль в научном и социальном плане как в конце 1910-х, так и в конце 1920-х гг. Прослеживается любопытная параллель между ними и такими немецкими приват-доцентами, как Мартин Хайдеггер, поддержавшими национал-социализм в конце 1920-х. Она напрашивается хотя бы потому, что структура российской академической прослойки была списана с немецкой. Как и почему радикальные интеллектуалы и лишенные статуса академики поддерживали новую власть в России после 1917 г. и в Германии после 1933 г. – отдельный вопрос, который тоже требует своего ответа.
Примечательно, что за весь период существования СССР, при всей любви официальных историков к революции, не было написано ни одной монографии, посвященной высшей школе в 1917 г. Лишь после 1991 г. в Киеве появилась первая в своем роде и образцовая работа о Киевском университете в 1910-1920-х гг. – трехтомник «Alma Mater» (его подготовили очень квалифицированные историки Василий Ульяновский и Виктор Короткий).
Поразительным образом высшую школу и университеты первое время вообще не трогали – изменили только порядок доступа для всех выпускников средних школ, начали создавать специальные рабочие факультеты для выходцев из низов и отменили прежние различия профессоров и приват-доцентов, сделав всех просто преподавателями. Частично из-за того, что власть большевиков была слаба, три года Гражданской войны университеты смогли прожить достаточно мирно. Наступление на них начинается сразу после стабилизации обстановки на фронтах – с осени 1920 г. Начали с Московского университета: туда назначили новое, партийное, руководство, нашелся человек, возглавивший поход против автономии высшей школы.
Началось превращение высших учебных заведений в университеты нового типа в соответствии с советской утилитарной парадигмой. Это происходило не только за счет внешнего давления, но и стараниями тех людей внутри системы, которые искренне были согласны с новой властью в том, что старый университет пребывает в кризисе и нуждается в коренных преобразованиях.
Радикальные перемены начались весной 1921 г., когда с подачи наркома просвещения Анатолия Луначарского и руководителя Государственного ученого совета Михаила Покровского было одновременно принято три документа. Во-первых, был утвержден новый устав университетов, фактически лишивший старую профессуру ее автономии гораздо сильнее, чем это было даже во времена самого жесткого засилья дореволюционного министерства просвещения. То есть, профессора, боровшиеся во времена царизма за эмансипацию и большую свободу университетов, при новой (казалось бы, радикально левой) власти оказались в ситуации гораздо более сильного нажима. Только руководствовался он уже не охранительными, а радикальными утилитарно-преобразовательными соображениями.
Во-вторых, тогда же отдельным декретом создается система Институтов красной профессуры, где готовится новая поросль преподавателей общественных дисциплин. Вводятся необходимые часы для преподавания «общественного минимума»: Конституции РСФСР, ленинизма и всего корпуса общественных дисциплин, дожившего до конца 1980-х гг. в виде т.н. «красной науки». Нужно напомнить, что всем студентам любых вузов на всей территории СССР читали научный коммунизм, марксистскую философию и политэкономию – начало этому было положено именно тогда, в 1921 г.
В-третьих, наконец, тогда была заложена основа радикального разделения исследовательских учреждений в рамках Академии наук, с одной стороны, и преподавания, с другой. Дело в том, что сразу после 1917 г., когда ни красной, ни белой власти было не до науки и высшая школа получила свободу рук, при всех университетах активно, целыми гроздьями, создавались новые научно-исследовательские лаборатории и подразделения. В начале 1920-х гг. большевистская власть прибрала всю систему к рукам и нашла необходимым принципиально разделить систему на две части. Отдельно начала функционировать система преподавания, предполагавшая оказание влияния на студентов, социальный контроль; туда было необходимо внедрить упомянутых выше «красных профессоров». А старую профессуру зачисляли в исследовательские институты – отдельные структуры, где они будут тихо сидеть в лабораториях, проводить семинары с аспирантами и не оказывать идеологическое влияние на массы. Более того, на знаменитом «философском пароходе» оказались, в первую очередь, те профессора, которые активно участвовали в университетском строительстве начала 1920-х гг.: активный поборник автономии университета социолог Питирим Сорокин был там вместе с недавним ректором университета историком-медиевистом и философом Львом Карсавиным. То есть, власть чисто утилитарно-технически решила разделить старых профессоров и студенчество как важный политический субъект, которым должны заниматься новые преподаватели. Потом уже эти чисто научные учреждения стали относить к системе Академии наук. И отсюда пошло советское разделение образовательно-научной жизни на вузовскую – более серую и «правильную» — и академическую, где было больше вольностей.
Впрочем, власть далеко не сразу добилась симпатий и послушания со стороны студенческой массы. Даже на рабфаках нередко студенты выступали вместе с преподавателями против инициатив правительства, когда эти начинания были явно головотяпскими. Не нужно забывать о том, что студенческое сообщество – единственное место, где в начале 1920-х гг. все еще были возможны свободные выборы. Их запретили по всей стране, но несколько лет студенческие группы все еще могли сами выбирать себе старост.
Была ли революция для академической среды чем-то приходящим извне или же академия была сама активно вовлечена в процессы социальных преобразований? Мне кажется, что верны оба ответа на этот вопрос. С точки зрения развития знаний стала ли революция толчком вперед или откатом назад (например, если сравнить уровень 1925 и 1911 г.)? Является ли университетская автономия самоочевидным благом, за которое нужно бороться? Был ли правильно поставлен еще в начале ХХ века университетскими раликалами диагноз – система находится в глубоком кризисе и нуждается в радикальных изменениях? На все эти вопросы пока нет однозначных ответов, и при поиске их нужно отдельно рассматривать каждый отдельный случай и научную дисциплину.
Так или иначе, получилось так, что годы Первой мировой войны и революции для оказались самыми благотворными для строительства новых вузов, новых факультетов, кафедр. Не было ни денег, ни многих других ресурсов, но новые учреждения росли, как грибы после дождя.
Кроме того, следует отметить, что в те годы академическая среда демонстрировала необычайную по нашим временам способность к самоорганизации и отстаиванию своих прав. Академический профсоюз активно действовал и во время Гражданской войны, и некоторое время после нее, сопротивляясь по мере сил реформам Луначарского и Покровского. В то же время, ни в 1991 г., ни сегодня мы не наблюдаем ничего подобного. Уже в начале перестройки на уровне организационных структур были предприняты меры, лишавшие профессоров и ученых прав, связанных с академическим самоуправлением, и переводившие их в разряд обычных наемных работников, которые не имели никакого права голоса и могли быть уволены руководством в любой момент. На рубеже 1990-х все, к чему привыкли интеллектуалы, настолько стремительно и основательно разрушилось, что было непонятно, что нужно еще защищать (в отличие от 1917 г., когда изменения поначалу не казались такими радикальными). В результате в наши дни представители академической сферы сдали многие прежние позиции без боя, не предпринимая попыток коллективных действий и реализуя стратегии индивидуального выживания.