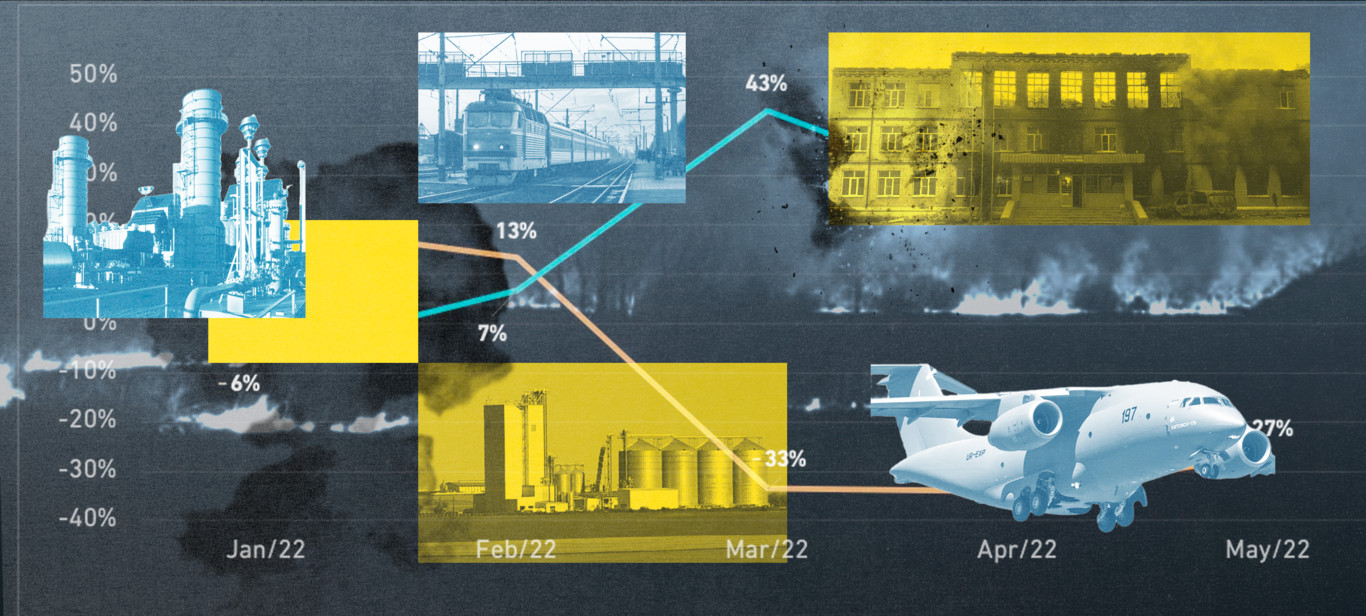Інтерв’ю зі Стівеном Рейною
Передмова Володимира Артюха
Я прослухав курс Стівена Рейни «Критичний аналіз війни» у Центральноєвропейському університеті навесні 2016 року, коли бойові дії на Донбасі відносно стишилися і з’явилася нагода вкласти трохи більше моральної та інтелектуальної енергії в раціональне осмислення. Цей курс опинився на перехресті мого давнього інтересу до марксистської антропології та моїх недавніх спроб раціонально підійти до війни в Україні.
Стівен Рейна належить до того напряму в американській післявоєнній антропології, який часто називають культурним матеріалізмом. Я писав про нього у своїй попередній статті 1(Артюх 2016) на «Спільному», присвяченій антропологу Сідні Мінцу. Мінц зі своїм товаришем та колегою Еріком Вулфом, переклад книги якого «Європа і народи без історії» частково опубліковано на «Спільному», були старшими колегами Рейни й належали до кола Джуліана Стюарта в Колумбійському університеті. Після навчання в університеті вони обидва дрейфували в бік відверто класового й більш глобального підходу до історичного та структурного пояснення соціальних та культурних фактів розвитку глобальної капіталістичної системи. Рейна пішов схожим шляхом, але його інтереси змістилися до більш насильницьких аспектів капіталістичних соціальних формацій. Починаючи з польової роботи в Чаді та професійної кар’єри в Американській агенції міжнародного розвитку, він розробив теорію глобальної войовничості, що базується на історичних та антропологічних поясненнях воєн у світі імперій.
Саме цього мені тоді бракувало, і саме це дало мені нагоду дещо втихомирити докори сумління, адже моїм основним академічним інтересом досі є мирний, некатастрофічний і більш традиційний аспект капіталістичного світу: форми експлуатації праці. У своїй першій спробі пояснити собі хоча б деякі сторони збройного конфлікту на Донбасі в матеріалістичній перспективі я написав роботу, в якій аналізував той аспект війни, який був найбільш емпірично доступним для мене: дискурс про гібридну війну, його походження та функції в придушенні громадянського суспільства 2. Критикуючи поняття гібридної війни та ширшу академічну парадигму нових воєн, я покладався на теорію глобальної войовничості Рейни, яку він виклав у кількох статтях та книжці «Смертельні суперечності», що вийшла друком у серпні 2016 року 3. Він переконливо критикував підхід «нових воєн» і дав альтернативну класифікацію воєн із перспективи владних відносин у світі імперій. Я використав цю класифікацію, щоб пояснити розвиток конфлікту в Україні від протестів на Майдані до теперішньої фази війни поза традиційними опозиціями між внутрішнім та міжнародним конфліктом і опозиціями однополярного та багатополярного імперіалізму. Ми обговорили результат із професором Рейною, і я вирішив зробити з ним інтерв’ю про ширше коло питань, яке цікавило б наших читачів: матеріалістичні напрями в антропології, осмислення імперіалізму в сучасному світі, релевантність марксизму для соціальних наук, розуміння логіки війни як наслідку суперечностей усередині та поміж імперіями.
Володимир Артюх: Моє перше питання стосується Вашого раннього академічного життя. Я знаю, що Ви брали участь у досить важливому післявоєнному матеріалістичному напрямі в американській антропології, зараз в основному забутому й фактично невідомому в пострадянських країнах. У своїх статтях Ви цитуєте Джуліана Стюарта та Марвіна Гарріса. Чи не могли б Ви більше розповісти про це середовище?
Стівен Рейна: Школа, про яку Ви говорите, має багато назв, але, мабуть, найдоречніше було б називати її «культурним матеріалізмом». Вона базувалася в Колумбійському університеті, а потім деякі з її представників переїхали до Мічиганського університету. В основному це були люди, що походили з Брукліна, повернулися з Другої світової війни, були не дуже юними й мали симпатію до політичного лівого флангу, звідки їхній матеріалізм. Це були часи маккартизму, і якщо тебе знали як лівого, тебе не брали на роботу. Тож вони намагалися дотримуватися лівих позицій, але не вживали відверто лівої мови. Я був частиною цього середовища. Я був студентом Марвіна Гарріса, Мортона Фріда, але не застав Джуліана Стюарта. В основному ми були «прогресивними» в США, але не відвертими марксистами.
Проте була подія, що сильно радикалізувала людей, точніше, низка подій. По-перше, це в’єтнамська війна. Люди відверто виступали проти уряду США. По-друге, навесні 1968 року були протести проти університетської адміністрації. Протести були по всьому світу, частково проти війни у В’єтнамі, частково проти пригноблення вдома. Я брав у цьому участь. Я провів ніч у в’язниці, і це змінило й мене, і майже всіх інших. І вони різко пішли вліво.
Тоді я не став лівим, я був дещо розгубленим і пробував різні теоретичні підходи. Я навіть пішов працювати до Агенції з міжнародного розвитку США (USAID). Не для того, щоб стати реакціонером, а щоб зрозуміти, що вони там роблять. Саме цей досвід і зробив мене ліваком, коли я побачив, що в Нігері відбувається концентрація земельних володінь, багатії скуповують великі шматки землі. Я написав звіт до USAID, але вони сказати, що не можна такого робити. Я сказав: «Ні, можна!», – розвернувся, гримнув дверима і став марксистом.
В.А.: Коли це було?
С.Р.: Років через десять після 1968-го, може, 1979-го чи 1980-го року. Думаю, точна дата, коли я став марксистом – це коли вони завернули мій звіт і сказали, що «не можна цього робити».
В.А.: Тоді Ви пішли з академічного життя?
С.Р.: Я завжди був дуже обережним. Я залишився в академії, взяв відпустку. Вони думали, що я не повернуся. А люди, з якими я працював, думали, що я не буду й намагатися, що я залишуся в USAID, бо я заробляв багато грошей, у мене було багато влади, і вони гадали, що це мене звабить.
В.А.: Чи не могли б Ви більше розповісти про Ваші найраніші наукові зацікавлення? Ви поїхали вивчати Африку, Чад?
С.Р.: Мене цікавила Африка. Спочатку я поїхав туди, щоб вивчати африканську державу. Тоді саме вийшла в світ книжка Поланьї про африканську державу Дагомею 4. Я збирався вивчати африканську державу на території Чаду, що називалася Багермі, і подивитися, чи те, що Поланьї написав про Дагомею, спрацювало б для Багермі. Проте я приїхав туди в розпал громадянської війни і не зміг дістатися до центру території Багермі. Мені довелося змістити свій дослідницький інтерес дещо далі від вивчення політичної економії Багермі. З іншого боку, довелося пережити громадянську війну в Африці. Однієї ночі вже думали, що наше село будуть атакувати. Іноді зранку над селом пролітав літак. Але він ніколи не атакував, він повертався з патрулювання. Кілька разів я проходив крізь шеренги французького іноземного легіону, коли йшов до місця польової роботи, а вони відступали. Мені стало цілковито зрозуміло: те, що мене цікавило академічно, зовсім не цікавило місцевих. Їх цікавило те, що їхніх родичів могли вбити. Саме тоді я зацікавився війною.
В.А.: Ми повернемося до цього питання пізніше. Тож це сталося набагато раніше, ніж Ви зацікавилися марксизмом. На вас тоді ще впливав культурний матеріалізм. І Ви були ближчими до Мортона Фріда, так?
С.Р.: Справді, моя дисертація була класичною культурно-марксистською дисертацією на тему демографії. Я намагався показати вплив медичних умов на соціальні змінні, що впливали, у свою чергу, на демографічні змінні. Населення Багермі, яке я вивчав, мало дуже низьку плідність. І я намагався зрозуміти, чому. Я вивчав різні практики укладання шлюбу, особливо викуп за наречену, і показав, що ця практика мала матеріальні наслідки. Конкретніше, звичай викупу означав, що молоді чоловіки мусили відкладати весілля, але ж вони не відмовлялися від сексу. Вони заражалися гонореєю, і коли одружувалися з молодими жінками, то передавали їм гонорею, а це призводило до неплідності. Отож, це було вивчення медичного матеріального впливу практик одруження на відтворення населення.
В.А.: Як Ви зараз дивитеся на висновки, зроблені тоді? Адже друга генерація, яка вчилася у представників культурного матеріалізму, повернулася до марксизму й почала вважати своїх попередників вульгарними матеріалістами.
С.Р.: Грубими вульгарними матеріалістами! Чесно кажучи, я симпатизував їм. Вони жили в часи страху. Якби вони сказали «я марксист», вони б утратили роботу. Я жив у часи після 1960-х, я міг сказати «я марксист» і не втратити роботу – я просто не дістав би іншої. Але я відчував, що це було важливо: мати можливість сказати «я лівий, і це моя позиція».
В.А: Зважаючи на Ваші недавні інтереси, як би Ви описали ваші теперішні стосунки з марксизмом? З ідеями, що їх Ви взяли з діалектики, політичної економії, те, що Ви називаєте суперечністю між землею та капіталом?
С.Р.: Мої цілі, звичайно, дуже близькі до цілей Маркса: створити справедливе егалітарне суспільство. Це по-перше. По-друге, мені завжди здавалося, що Марксові концепти є важливими, і їх треба використовувати в інтелектуальній побудові теорії. Але, і це по-третє, ми живемо у світі, відмінному від того, в якому жив Маркс, і сталося багато речей, що примусили б самого Маркса змінити свою теорію. Тож я сказав би, що моє мислення надихнув Маркс, я створюю поняття, за допомогою яких стараюся зробити Марксові поняття точнішими. Мені здається, що це було традицією марксистської думки.
Якщо точніше, то я походжу зі структурного марксизму, французького напряму, який представляли Альтюссер та Годельє, коли останній іще був марксистом. Але я вважаю, що основна проблема структурного марксизму полягає в тому, що вони не задумувалися про суб’єктивну сферу. Цю сферу я називаю «В-простором», внутрішнім щодо тіла особистості. Структурні марксисти добре описували структури, але їм не вдавалося описати, як актори зі своїми суб’єктивностями роблять структури динамічними. Шлях подолання цієї проблеми я вбачав у поверненні до герменевтики. Герменевтика для мене – це те, як актори інтерпретують події, те, що відбувається в реальності. Далі я висуваю твердження, що герменевтика – це завжди політичний процес, у ній задіяно не одного індивідуального актора. Скоріше тривають дебати про те, як інтерпретувати світ. Ці дебати і є політикою, дебати про те, чиєї інтерпретації дотримуватися. Щоб із критичної точки зору зрозуміти, що відбувається в світі, я маю сказати: «Добре, ось так структури діють у світі». Але далі треба сказати, як люди інтерпретують те, як діють структури. А потім треба проаналізувати, чи ці інтерпретації про те, як світ діє, керують їхніми вчинками.
В.А.: У Вашій книзі «Смертельні суперечності» (Reyna 2016) Ви пишете про структурний критичний реалізм. Чи не могли б Ви пояснити для невтаємничених, по-перше, як у вас з’явилася ідея книги, по-друге, які основні поняття та теоретичні твердження утворюють Ваш підхід?
С.Р.: Як з’явилася книга? Одного разу я просто розлінувався і не підготувався до лекції. Я знав, що мені треба було представити теорію сучасної війни на тій лекції. По дорозі зі свого офісу до аудиторії я придумав одну ідею, яку назвав теорією глобального воювання. Вона була неймовірно сирою, засновувалася на тому, що я думав і писав у той час, і стосувалася в основному Африки. І це була дуже добра лекція. Не пам’ятаю, як давно це було, може десять років тому. Та лекція потім стала статтею.
В.А.: Де було прочитано цю лекцію?
С.Р.: В університеті Нью-Гемпшира, де я провів тридцять років. Я перероблював статтю багато разів, доки вона не виросла у шестисотсторінкову книгу. У книзі три частини. Перша – це просто вступ. Друга – це виклад теорії глобальної войовничості. А третя частина – це дослідження двадцяти чотирьох воєн, які Сполучені Штати вели з 1915 року й подосі, що спирається на теорію. Я доводжу, що всі двадцять чотири війни вписуються в мою теорію.
Сама теорія засновується на шести поняттях: суперечність, вразливість для відтворення, герменевтична політика, публічні марення, глобальне воювання та Шульців 5 дозвіл. За теорією стоять такі прості та зрозумілі ідеї. Це книга про динаміку імперій. Суперечності вражають здатність імперій відтворюватися. А вони дуже хочуть і далі відтворюватися. Коли вони стикаються з суперечностями – а мені здається, що зараз вони таки стикаються з серйозними суперечностями, – виникає вразливість їхньої здатності до відтворення. І тоді починаються дебати про те, що робити з тими труднощами, з якими стикаються імперії. Ці дебати точаться серед безпекових еліт, не всі можуть брати в них участь. Безпекові еліти – це впливові люди, що ухвалюють рішення, воювати чи не воювати. Це герменевтична політика. У певний момент деякі з позицій чи акторів перемагають у герменевтичній політиці. І вони створюють те, що я називаю публічними мареннями. Марення – це бажання безпекових еліт, впливових людей. Це інтерпретація того, що відбувається, і директива про те, що робити з тим, що відбувається.
Тож на початку є суперечності. По-друге, є проблеми. По-третє, є герменевтична політика, вона породжує публічні марення, які пояснюють, що діється, і вказують, що з цим робити. Публічні марення для сучасних імперій відіграють таку роль: коли суперечності серйозні, то марення дають елітам зрозуміти, що треба воювати. Це ключова процедура. Потім трапляються різні події. Еліти дивляться на них, а потім інтерпретують через лінзу марень. Якщо марення кажуть їм, що треба воювати, – тоді, скоріше за все, вони будуть воювати, хоча можуть спробувати й мирний шлях вирішення проблем, із якими вони зіткнулися. Якщо їм це не вдається – вони згадують про Шульців дозвіл і починають війну.
В.А.: Хочу дещо прояснити: після кількох повторних спроб застосувати мирні вирішення суперечностей еліти доходять висновку, що час воювати. Це те, що Ви називаєте Шульцовим дозволом?
С.Р.: Так. Треба також додати, що існує певне базове публічне марення – і кілька варіацій цього марення для різних періодів. Наприклад, у 1950 році було вирішено, що США повинні досягнути імперіалістичної глобальної гегемонії, у тому числі воєнними засобами, якщо це буде необхідно. І це рішення стало керівним публічним маренням безпекових еліт США від 1950 року. Якщо ми бачимо, що нашому імперіалістичному гегемонічному статусу щось загрожує, ми спробуємо вирішити проблему мирно. Якщо нам це не вдасться, ми будемо воювати. Була ще одна версія цього ширшого публічного марення. Упродовж холодної війни це була версія холодної війни. Вона полягала ось у чому: якщо Радянський Союз буде нам загрожувати, ми будемо відповідати всіма способами, включно з крайнім випадком – війною. І вони влаштовували «посередницькі війни» (proxy wars). Після краху Радянського Союзу вони й далі хотіли глобальної гегемонії, і з’явилися інші суперечності, що, на їхню думку, загрожували імперіалістичній гегемонії. Серед іншого, вони створили марення контролю над нафтою. Воно зводилося ось до чого: якщо контроль над нафтою втрачено й ми не можемо вирішити цю проблему мирно, ми будемо воювати. Тож є дві різні версії більш загального публічного марення, похідні від публічного марення глобальною імперіалістичною гегемонією, що поширилося з 1950 року.
В.А. Ви кажете, що найважливіші чинники – це імперії та їхнє відтворення. Але що вважати імперією за неоколоніалізму? Це важлива тема. Як визначити імперію, скільки взагалі є імперій: одна – американська, чи кілька, об’єднаних у блоки? Ви казали, що взагалі є мало країн, що не належать до імперій. Ви не могли б розказати про це детальніше?
С.Р.: Я казав, що в ході історії, від часів виникнення держави, багато держав були імперіями в тому сенсі, що хотіли території, із яких вони могли б висотувати багатство. Зараз, мені здається, існує більше ніж одна імперія, але імперії стали настільки великими, що більшість інших країн належать не до ядра імперій, а є країнами-клієнтами всередині неформальних імперій. Наприклад, безперечно, існує американська імперія з державою-ядром США, що має цілу низку впливових клієнтів, як-от західноєвропейські держави: Німеччина, Франція, Британія, а також Японія. Далі існує ще одне коло держав-клієнтів, але менш важливих. Це країни, що колись були «третім світом». Мені також здається, що була радянська імперія і що Росія намагається відтворити імперію в суперництві з американською імперією. Існує китайська імперія, яка зараз перебуває в процесі енергійного розширення. Але оскільки вона зараз така багата, то намагається здобути владу над територіями через економічні та фінансові засоби. Ще є старі імперії, що намагаються відтворити субімперії всередині імперських утворень. Наприклад, Франція намагається контролювати частини світу, де раніше в неї були формальні колонії. Це складний процес. Мені здається, ми все ще живемо в світі імперій.
Дещо нове в історичній перспективі – це створення блоків. Грамші говорив про історичні блоки; мені здається, можна говорити про імперські блоки, в яких могутні імперії домовляються між собою про шляхи досягнення глобального панування. Наприклад, останній великий спазм серйозних воєнних дій – Друга світова. По суті, був імперський блок США-Британії проти Німецько-Італійсько-Японського блоку. Найбільше лякає те, що нам, можливо, судилося пережити ще один конфлікт такого типу, за якого Росія створить альянс із Китаєм, Америка з Західною Європою та Японією. Це буде жахіття для людства, але щастя для тарганів.
В.А.: Говорячи про жахіття. Моє останнє питання – про війну на Донбасі. Я намагався вступити в діалог із Вами у своїй статті й спробував проінтерпретувати динаміку війни на Донбасі, застосовуючи ту класифікацію, яку Ви запропонували в книзі. Це, по суті, локальна війна за умов слабкої держави, що завдяки логіці глобальної войовничості загрожує перерости в більшу глобальну війну. Зараз вона перебуває в стадії меншої глобальної війни. Ви б погодилися з цим?
С. Р.: Мені здається, події в Україні можна аналізувати на одному рівні як вияв імперіалістичної войовничості. Існує змагання між Росією та США за те, хто фактично контролюватиме Україну. З іншого боку, існує інший тип войовничості, про який я не говорив багато. Це локальна війна між суб’єктами, які є суто українськими й мають свої власні цілі. Мені здається, найважливіше те, якою мірою імперіалістичні сили контролюють дії локальних гравців. Я не знаю достатньо, щоб судити, але схоже, що на певному рівні ми спостерігаємо імперіалістичну глобальну війну за контроль над територією, з якої імперії хочуть наживати багатство.
В. А.: Дуже важливо розрізняти типи держав-клієнтів, бо я впевнений, що й сепаратистські політичні утворення, і Україну можна вважати державами-клієнтами. Але їх контролюють у різні способи. Глобальні імперії вживають різні засоби та ресурси для контролю. І рівень підкорення цьому контролю різний. Чи можливо якось класифікувати держави-клієнти?
С. Р.: Я про це небагато міркував, і я вважаю, що це важлива сфера мого мислення, яку ще слід розвивати. У мене досить груба класифікація держав-клієнтів. Є два рівні. Перший – це розвинуті капіталістичні держави, в основному на Заході, чий суверенітет узурповано ядром американської імперії, США, у плані їхньої політики. Хоча вони й мають контроль над внутрішньою політикою, економікою, але в міжнародних відносинах вони в основному слухаються США. Існує й другий рівень країн-клієнтів – неоколонії. Сьогодні ми називаємо їх країнами, що розвиваються, або економіками, у яких державі бракує ресурсів для контрою над державою. У кожній із цих країн, у Африці чи Латинській Америці, США будуть намагатися контролювати внутрішні й міжнародні відносини. І, в основному, їм це дуже добре вдається.
В. А.: Отже, існують різні рівні підпорядкування імперіям. Але, мабуть, імперії самі організовані ієрархічно.
С. Р.: Звісно. Імперія – це ієрархія держав, і цю ієрархію слід розуміти як таку, що визначається різницею в тому, що я називаю силовими ресурсами, і як результат – різницею в могутності. Вершина ієрархії – США – має величезні силові ресурси і, відповідно, величезну могутність. Середній рівень ієрархії – це держави, що мають менше силових ресурсів і могутності. Найнижчий рівень – держави чи території, що не є державами в повному розумінні, мають найменше ресурсів і могутності. Але вивчати динаміку імперій – означає вивчати, що відбувається з силовими ресурсами протягом певного часу в результаті критичної інтенсифікації та накладання суперечностей. Наприклад, можна стверджувати, що військова потуга США в певних регіонах сильніша за будь-чию іншу. Але економічні силові ресурси відносно інших країн суттєво падають. Так, США – це найбільша країна-боржник у світі, тому вона не може розкидатися грошима, щоб купити собі контроль, як Китай, у якого зараз безліч готівки.
В. А.: На Вашу думку, існують стратегії, щоб зупинити чи, принаймні, пригасити глобальну войовничість?
С. Р.: Я завершив цю книгу в сильній депресії. Я думаю, що людство переживає часи шостого вимирання. Види тварин вимирають із рекордною швидкістю. Я гадаю, людство стикається з надзвичайно серйозними суперечностями, особливо з суперечністю між землею й капіталом. Вирішення цієї проблеми – знищення глобальної системи хижацького врядування з імперіями та капіталістами, які прагнуть вхопити собі забагато. Тобто, розв’язок проблеми – це створення світового справедливого егалітарного врядування. Про це мріяли віддавна. Але треба сказати, зараз я не бачу, як цього досягнути.
Notes:
1. Артюх, В., 2016. “Цукор і Піт: експлуатація та споживання в історичній антропології Сідні Мінца”. В: Спільне: журнал соціальної критики. ↩
2. Цей текст незабаром можна буде прочитати в: Журнал соціальної критики Спільне: “Війна і націоналізм” (2016, випуск №10) ↩
3. Reyna, S., 2016. Deadly Contradictions. The New American Empire and Global Warring. Berghahn Books. ↩
4. Polanyi, K., 1966. Dahomey and the Slave Trade: an Analysis of an Archaic Economy. Seattle: University of Washington Press. ↩
5. Ідеться про Джорджа Шульца, державного секретаря США за часів президента Рейгана, відомого висловом «Якщо більше нічого не спрацьовувало, треба було вживати силу». ↩