Вивек Чиббер
Если все социальные действия смыслоориентированы, значит ли это, что материалистический подход к классу обречен? Похоже, что так полагают многие, если не большинство социальных теоретиков, отказываясь от структурной теории класса в пользу теории, которая представляет его как культурный конструкт. В этой статье показано, что можно принять основные идеи культурного поворота, сохраняя при этом материалистическую теорию классовой структуры и классообразования.
На протяжении жизни более чем одного поколения теория классов находилась под глубоким влиянием так называемого «культурного поворота». Хотя конкретные идеи, связываемые с ним, варьируются в различных дисциплинах, практикующие его ученые исходят из общей совокупности базовых догадок. Главная из них выражается предположением, что социальная практика не может быть понята вне идеологических и культурных рамок, в которых находятся ее субъекты — их субъективного понимания своего места в мире. Социальное действие в основе своей является смыслоориентированным. Это означает, что теории класса в первую очередь должны сосредоточиться на том, как субъекты осуществляют интерпретацию социальных ситуаций и как конструируются используемые ими системы координат. Этот акцент на интерпретативном измерении социального действия является главной, но не единственной опорой культурного поворота. Сосредоточенность на идеях и смыслах побуждает отказаться от структурного анализа в пользу рассмотрения социальных явлений как контингентных и, кроме того, делать важный акцент на локальном и особенном, в отличие от более универсалистских претензий традиционной теории классов.
Естественным следствием данного сдвига стало падение влияния идеи о том, что понятие класса относится главным образом к проблемам интересов и власти, и соответствующий отход от связанного с марксистской теорией анализа класса на макроуровне. Не только в таких дисциплинах, как история и антропология, но даже и в социологии, класс все чаще рассматривается сквозь призму контингентности его культурного конструирования, а не как упрямый структурный факт; его отношение к социальным действиям рассматривается как осуществляющееся посредством конструирования идентичностей агентов, а не как следствие воздействия их объективных интересов. Конечно, перемена точки зрения не была полной. В англоязычном мире работы Эрика Райта и Чарльза Тилли в Соединенных Штатах и Джона Голдторпа в Британии способствовали продолжению жизненно важной традиции материалистического классового анализа. Тем не менее значительная часть интеллектуальных трудов уже некоторое время решительно отвергает этот подход.
Однако теперь есть признаки растущего недовольства всеобщим увлечением культурой. В эпоху, когда капитализм распространился во всех уголках мира, подчиняя труд и бизнес одному и тому же рыночному принуждению, когда в моделях распределения доходов многочисленных стран глобального Севера и Юга стали наблюдаться сходные тенденции, когда экономические кризисы дважды менее чем за десять лет охватывали почти всю планету, ставя на колени страну за страной, и когда в десятках экономик на всех континентах произошел значительный сдвиг в неравенстве, касающемся распределения благ, довольно странно оставаться в плену концептуальной схемы, упорно твердящей о локальности, контингентности и неопределенности перевода. Для многих становится все более очевидным, что существуют воздействия и ограничения, охватывающие множество различных культур, и — что более важно — эти ограничения вызывают сходные типы реакций со стороны социальных субъектов независимо от культуры и географии.

Нигде этот сдвиг не проявил себя с такой очевидностью, как во впечатляющем успехе «Капитала» Томаса Пикетти. Если оставить технические аспекты его аргументации, живой отклик у читателей находит именно та его идея, что капитализм обладает некоторыми основными, устойчивыми свойствами, оказывающими значительное влияние на любую экономику, в которой он укореняется[1]. Пикетти демонстрирует, что распределение доходов регулируется некоторыми простыми взаимоотношениями между основными экономическими переменными и, что не менее важно, эти переменные также выражают устойчивые отношения власти между классовыми субъектами. Контроль над экономическими активами дает капиталистам власть над рабочей силой, используемую ими для получения возрастающего количества нового дохода, создаваемого в процессе производства. Единственное, что варьируется во времени и пространстве — это степень, в которой это властное преимущество может быть использовано. Однако каковы бы ни были различия, факт дисбаланса власти и вытекающего отсюда неравенства доходов встроен в логику системы. Аргумент Пикетти отражает то, что многими воспринимается как сущность нашего нового Позолоченного века, — что мы живем в ходе продолжительной классовой войны богатых против бедных, глобальной войны, театр которой простирается поверх национальных границ и основные составляющие которой являются общими для субъектов независимо от культуры.
Пикетти — только один из наиболее впечатляющих примеров отхода от культуры и контингентности. Вольфганг Штреек, — пожалуй, ведущий теоретик европейской социал-демократии и один из самых влиятельных сторонников конструктивизма в 1990-х годах, — призвал ученых снова выдвинуть на первый план структурную динамику капитализма[2]. Точно так же и исторический социолог Уильям Сьюэлл, еще один ведущий сторонник культурного поворота в 1990-х годах, с некоторых пор высказывает мнение о том, что концентрация внимания на переводе и агентстве ведет в конечном итоге к забвению основных объективных условий капитализма, как раз в то время, когда он расширил сферу своего влияния и власти на весь земной шар [3]. Можно было бы значительно расширить этот список, но общая картина ясна — настало время возродить материалистический анализ класса и капитализма.
Даже при том что идея о необходимости возрожденного материализма пользуется значительной поддержкой, прогресс в этом направлении является медленным и эпизодическим. Частично это объясняется тем, что тенденции в развитии академической науки не меняются за одну ночь; возможно, все, что нам нужно сделать, — это немного подождать, чтобы структурный анализа капитализма приобрел влияние. Но это маловероятно. Несомненно, что одной из причин живучести культурного поворота является интуитивная привлекательность его основополагающих идей. Действительно, как я покажу, некоторые главные доводы в пользу культурной медиации, несомненно, правильны и потенциально разрушительны для экономической теории класса. Поэтому любой ответ на культурный поворот должен учитывать эти опасения и показать, что, какие бы доводы не приводились в пользу материализма, они должны признать вездесущность культуры.
В этой статье я выдвигаю аргументы в защиту такого материалистического классового анализа. Под ним я подразумеваю теорию, в которой класс определяется объективным положением агентов в социальной структуре, что, в свою очередь, порождает совокупность интересов, управляющих социальными действиями этих агентов. Но я покажу также, что теория такого рода не должна идти вразрез с основными идеями культурного поворота. Более того, я покажу, что класс действует посредством культуры, но при этом он сохраняет автономное влияние экономической структуры. Проблема, следовательно, заключается не в том, влияет ли смысловая ориентация агентов на социальные действия, а в том, как она это делает. Различие между материалистическим классовым анализом и более идеаторными (т. е. имеющими отношение к идеям, мыслям, представлениям, когнитивным процессам) вариантами касается, следовательно, не релевантности культуры как таковой, а способов, какими указанное влияние взаимодействует с другими, неидеаторными факторами. Вначале я описываю два наиболее важных критических довода, выдвинутых против структурных теорий класса. Затем я показываю, что правильно понятый материалистический подход может примириться с обоими этими доводами и даже полностью согласуется с ними. С другой стороны, продуманная материалистическая теория может также объяснить те самые явления, которые многие теоретики рассматривают как вызов культурному повороту — неопровержимые, упрямые факты, касающиеся власти и распределения богатства при капитализме, которые, по-видимому, охватывают все его пространство и время.
Вызовы материализму
В более традиционной теории классов предполагается, что структурное положение агентов побуждает их к таким моделям социальных действий, которые можно предсказать независимо от их культуры. Но это создает впечатление, что с точки материалистов классовые процессы протекают вне культуры, так что экономические агенты действуют на основе рациональности, которая не имеет никакого отношения к их идентичности или моральным ценностям. Как отмечают многие теоретики, такой образ социальной структуры не может быть устойчивым. Действия класса во всех отношениях настолько же погружены в смысл и ценности, как любая другая социальная практика. Если это так, мы должны подозрительно относиться к теории, которая, судя по всему, выбрасывает культуру из любой сферы социального взаимодействия, даже если это экономическая сфера.
Особенно важны два тезиса, вытекающие из вышесказанного. Первый касается значения приведенного утверждения для анализа классовой структуры и резюмирован в этом высказывании Уильяма Сьюэлла:
«Структуры не могут быть нейтральными причинными факторами (как предполагает материалистическая теория), поскольку все структуры должны интерпретироваться агентами. Каким образом структуры оказывают влияние, если оказывают его вообще, зависит от смысловых конструкций. Следовательно, структуры и ресурсы, которыми они наделяют агентов, являются следствиями смысла»[4].
Аргумент Сьюэлла значим здесь по двум причинам. Во-первых, он распространяет ключевую роль смысловой и культурной контингентности с обычной сферы образования классов на саму классовую структуру[5]. Теоретики класса уже давно считают возможным объяснять структурное измерение класса независимо от культуры, как более или менее объективную данность. В той мере, в какой культура играет значительную роль, она, как правило, ассоциируется со сферой классообразования — когда классовые субъекты осознают свое место в структуре и выстраивают вокруг нее собственные субъективные идентичности. Его мысль выражает ощущение, в значительной степени вызванное разочарованием более старыми образцами классового анализа, в которых, похоже, сфера структуры была объявлена свободной от смыслов.
Сьюэлл, несомненно, прав в своем предположении, что если смысловая ориентация встроена в социальную практику, то классовая структура тоже должна быть культурным фактом, поскольку структуры — это не что иное, как социальные практики, воспроизводимые с течением времени. Это вторая причина, по которой его аргумент значим. Материалисты не могут согласиться с тем, что социальное действие регулируется смысловой ориентацией агентов, но при этом они отрицают, что смысл и культура встроены в классовую структуру сколько-нибудь меньше чем в классообразование. Если последнее погружено в культуру, это же относится и к первому.
"Любая приемлемая классовая теория должна объяснить тот факт, что в современной классовой структуре идентификация рабочих с их классом является скорее исключением, а не правилом, и поэтому отсутствие классового сознания — это не отклонение от нормы, а скорее норма."
Второе затруднение материалистической теории класса связано с ее предположительным детерминизмом в отношении классообразования. После идентификации классовой структуры предполагается, что она также должна порождать весьма конкретную совокупность интересов. Ожидается, что рациональные субъекты, будут коллективно стремиться к достижению своих интересов, ведя классовую борьбу. Таким образом, структура наделяется причинной силой порождать как осознание классовых интересов, так и стремление к их коллективному осуществлению. Это еще один способ сказать, что в соответствии с материалистической теорией класса, особенно ее марксистского варианта, как только возникает классовая структура, предполагается также, что она порождает конкретную совокупность субъективных идентичностей — принадлежности к определенному классу и стремления реализовывать политическую программу, уделяющую первостепенное внимание именно этой совокупности идентичностей. Но, как утверждает критика, все это необоснованно. Социальные субъекты обладают множеством идентичностей, и нет оснований полагать, что они предпочтут субъективную идентификацию с классом идентификации с какой-либо другой из несметного множества их социальных ролей. Структурная классовая теория исходит из того, что опыт наемного труда неизбежно ведет к возникновению классового сознания, и, если это не происходит, тогда исследуемому случаю придается статус «девиантного», аберрации. Но оказывается, что во всем мире реальность отклоняется от предсказаний теории. Следовательно, в какой-то момент, должно наступить осознание, что изъян скрывается в теории, а не в мире[6].
Обеспокоенность детерминизмом или телеологией, как и в случае с аргументом Сьюэлла, безусловно оправданна. Любая приемлемая классовая теория должна объяснить тот факт, что в современной классовой структуре идентификация рабочих с их классом является скорее исключением, а не правилом, и поэтому отсутствие классового сознания — это не отклонение от нормы, а скорее норма. Поэтому работающая классовая теория должна обладать механизмами, объясняющими этот факт не в ad hoc манере, а как нормальные последствия существования капиталистической экономической структуры. Далее она должна объяснить, как и почему в определенных условиях как исключение из нормы может сформироваться классовая идентичность.
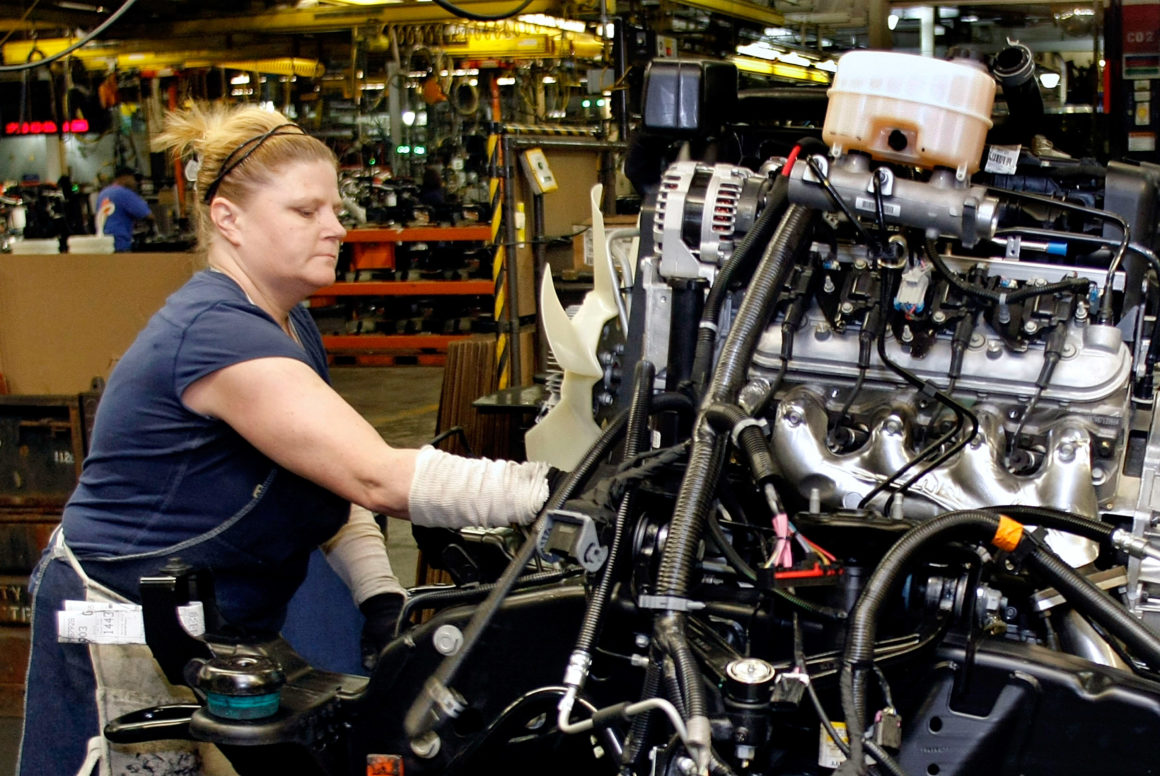
Поэтому вызовы теории классов исходят с обеих сторон. С одной стороны, она должна быть способна объяснить, каким образом основные характеристики капиталистического производства успешно распространились по всем уголкам мира, несмотря на огромные культурные и региональные различия, и почему им всем присущи столь поразительно сходные модели распределения, опять-таки, несмотря на все различия в истории и культуре. Это вызов культуралистским версиям теории. С другой стороны, если, как представляется, эти факты оправдывают поворот к представляющему больший интерес структурному пониманию класса, этот последний вариант должен продемонстрировать, что он может учитывать проблемы, на которые обращают внимание множество критиков традиционной теории и которые побуждают их обращаться к культуре как к альтернативной основе понимания класса и капитализма. Это вызов для марксистской и других материалистических версий теории.
Культура и социальная структура
Начнем с тезиса Сьюэлла о том, что структуры не могут действовать как нейтральные причинные факторы. Наиболее важной частью его аргументации является утверждение, что структуры должны интерпретироваться агентами, чтобы они могли выступать как действующие причины, а это осуществляется посредством некоторой схемы или совокупности кодексов, норм и правил, создаваемых местной культурой. Именно поэтому невозможно предсказать, каким образом структура будет влиять, даже если и будет, на социальное действие, пока мы не узнаем что-либо о содержании кодексов или схем, которыми руководствуются агенты. Следовательно, именно культура как опосредствующее звено обусловливает стратегическую ориентацию людей, а не базисные структуры.
Для иллюстрации сьюэлловского подхода рассмотрим пример религиозной общины. Отношения, связывающие священника с его приходом, представляют собой структуру такого рода. Эта структура инертна, если ее реляты (люди, которых она связывает друг с другом) принимают навязываемые ею роли. Но для того, чтобы они могли принять эти роли, людям сначала необходимо разъяснить, что предполагают эти роли. Если вы просто загоните людей в церковь — без осознания и принятия ими своих ролей — вы получите только собрание людей, занимающих небольшое пространство. Даже если один из них, священник, осознает и принимает свое место в этом собрании, это все равно не будет структурным отношением, пока его авторитет не признан и не принят собравшимися людьми. И наоборот, собранию бессмысленно вырабатывать правильное представление о своих обязанностях, если только человек, назначенный священником, не принимает правила и нормы, связанные с его собственным положением в структуре. Таким образом, люди не просто случайно вовлекаются в структуру религиозного собрания. Их место в нем — это следствие определенной структуры смысла. Культура, следовательно, обладает как причинной первичностью, так и первичностью в объяснении функционирования этой структуры.
Заметим, что реальная сила рассуждений Сьюэлла, как показано в данном примере, заключается в том, что подобное действенное вмешательство культуры является контингентным процессом, в результате чего и активация структуры также будет контингентной. Простое присутствие священника не превращает собравшихся в церкви людей в его прихожан. Совместное действие группы людей как собрания — это отдельный акт, зависящий от успеха их ролевой социализации. Но эта социализация вполне может потерпеть неудачу — либо из-за того, что на нее затрачено недостаточное количество ресурсов, либо потому, что целевая аудитория осталась незатронутой религиозной системой условных знаков или неспособной усвоить их. Если бы мы просто могли предположить успех интерпретационных схем, необходимых, чтобы субъекты согласились со своим местом в структуре, настойчивые утверждения Сьюэлла относительно того, что структура является следствием наделения смыслом, стали бы подозрительными — поскольку мы вполне можем допустить, что для социальной структуры необходимо, чтобы субъекты осознавали и принимали соответствующие роли, а также быть уверенными, что, как только структура будет создана, скорее всего произойдет и ролевая идентификация. В этом случае каузальная независимость культуры резко сократится, и, наоборот, каузальная независимость структуры возрастет. Если это так, то настаивать на первичности культуры просто бесполезно, потому что культура была бы следствием структуры, а не наоборот, как предполагает Сьюэлл. Следовательно, реальная сила его рассуждений заключается в подразумеваемом невысказанном утверждении/мысли, что смысл не только на самом деле формирует структуры, но и его наличие при выполнении этой задачи не может считаться само собой разумеющимся.

Итак, несомненно, верно, что многие социальные структуры подтверждают характеристику, данную Сьюэллом. Легко придумать множество других примеров, в которых: а) существование социальной структуры зависит от усвоения агентами определенных культурных кодексов, или б) интернализация этих кодексов сама по себе является контингентным результатом структуры. Конечно, как я уже отмечал, Сьюэлл в своих рассуждениях не выдвигает последнее условие в качестве самостоятельного тезиса. Он выводит причинную независимость культуры или смысла из первого утверждения — социальные структуры чтобы функционировать и оказывать свое воздействие должны интерпретироваться. Но как только мы отделим друг от друга эти два предложения, мы можем спросить, нельзя ли в действительности оспорить то, что он считает само собой разумеющимся? Должны ли мы рассматривать конструирование соответствующей смысловой ориентации как контингентный социальный факт? Или существуют некоторые структуры, радикально сокращающие или даже устраняющие контингентность при конструировании смысла? Если да, мы можем согласиться с утверждением, что социальная структура должна интерпретироваться, чтобы функционировать, но отвергнуть второй аргумент: этот процесс конструирования смысла может не состояться. По всей видимости, можно быть уверенным, вопреки мнению Сьюэлла, что, когда такая структура возникает, ее простое установление — это все, что необходимо для появления соответствующих смысловых ориентаций. Я попытаюсь показать, что класс — это именно такая структура.
В чем заключается специфика классовой структуры?
Классовые отношения — это структура, существенно отличающаяся от большинства других. Хотя любая структура существенно влияет на включенных в нее участников, структуры, относящиеся к классу, имеют особое значение: они связаны с экономической жизнью субъектов и устанавливают правила, определяющие, что субъекты должны делать для самовоспроизводства. Это наделяет классовую структуру способностью совершенно иначе влиять на совокупность мотиваций людей по сравнению с другими социальными отношениями. В то время, как большинство других отношений зависят от контингентного процесса ролевой идентификации субъектов, класс радикально сокращает контингентность, то есть случайность, произвольность и непредвиденность ее осуществления.
Чтобы понять причины, рассмотрим отношения наемного труда при капитализме, которые являются микрокосмом более широкой классовой структуры. Как и в любой другой структуре, ее функционирование требует интернализации соответствующих ролей ее релятами (элементами, вовлеченными в структурные связи). Наемные рабочие должны принимать свои обязательства и понимать их смысл; капиталисты должны усвоить правила, вытекающие из их положения. Вопрос, однако, заключается в том, может ли произойти сбой в смысловой ориентации, необходимой для функционирования структуры.
Логика наемного труда
Начнем с рассмотрения положения рабочего. Чтобы сделать этот пример особенно сложным для нашей теории, предположим, что лицо, находящееся в положении наемного рабочего, отвергает саму идею наемного труда или что оно воспитывалось в культуре, где люди обеспечивают собственное существование, занимаясь самостоятельным независимым производством, и, следовательно, не имеют опыта или представления о работе за заработную плату. В обоих случаях подвергаемый пролетаризации конкретный субъект обладает таким пониманием экономического воспроизводства, которое не только отличается от необходимого капиталистической классовой структуре, но и враждебно ей. Предварительная социализация в роли рабочего отсутствует — действительно, он занимает это положение с субъективностью, враждебной принимаемой им роли. В случае с церковной общиной, если бы люди, собравшиеся в церкви, относились враждебно к идее присоединения к собранию, они, скорее всего, ушли бы и тем самым устранили бы какую-либо возможность сохранения его социальной структуры. Но в случае с рабочим разумно ли ожидать, что, поскольку у него отсутствует соответствующая нормативная ориентация, он может просто уйти, подобно потенциальным членам церковной общины, и в конечном счете обрести себя в какой-либо другой экономической структуре, находящейся в более гармоничных отношениях с его культурой? Если он на самом деле подвергается пролетаризации, так что он на самом деле лишается доступа к средствам производства, тогда ответ должен быть отрицательным.
Чтобы понять, почему результат будет другим, стоит проанализировать различия между этими двумя случаями. Их противоположность напрямую связана с различием между мотивами, которые должны быть усвоены в процессе социализации, и мотивами, которые встроены в нашу базовую психологическую структуру. Пролетарий — это тот, кто по определению лишен доступа к каким-либо иным приносящим доход активам за исключением своих собственных трудовых усилий. Он не владеет никакими средствами производства и не владеет никакими государственными или корпоративными ценными бумагами. В капиталистической структуре единственной реалистичной стратегией его физического воспроизводства является наем к тем, кто контролирует производственные активы. И он будет стремиться наняться на работу, поскольку альтернативой является гибель. Это означает, желательность трудоустройства не является чем-то, что он усвоил в процессе культурного конструирования своей личности. Это желание создается благодаря мотивации, не зависящей от какой бы то ни было социализации, которой он подвергался ранее, — в силу элементарного стремления обеспечить свое физическое благополучие.
Это стремление является своего рода кросс-культурным генератором желаний — оно создает свою локально закодированную нормативную установку к поиску средств для обеспечения экономического выживания. Следовательно, если пролетарию прививали отвращение к идее наемного труда, но обнаруживается, что работа за заработную плату в действительности является единственной открытой для него возможностью прожить, это создает напряжение между его самоидентификацией и его желанием выжить. Далее, конечно, возможно, что в некоторых редких случаях ему будет безразлично, выживет он или нет. Но эти случаи являются патологическими — это чрезвычайно редкие случаи отклонения от нормы. Помимо этих немногих исключений, противоречие между социализацией ex ante и потребностью в средствах к существованию будет разрешено в пользу последней, и, следовательно, произойдет снижение значимости нормативной ориентации, побуждающей человека отказаться от наемного труда. Другими словами, если культурное воспитание пролетария побуждает его отказываться от найма на работу, результатом будет неуклонное ослабление и трансформация кодов, транслируемых его воспитанием, с тем чтобы он мог приспособиться к характеру наемного труда.
Принятие пролетарием его роли совершается посредством принудительного давления его классового положения. Это своего рода структурное принуждение. Под ним я подразумеваю, что навязывание роли не требует сознательного вмешательства другого человека, оно осуществляется просто обстоятельствами, в которых находится пролетарий, рядом возможностей, создаваемых его положением. В случае с потенциальным членом церковной общины отсутствует какая-либо параллельная структурная сила, притягивающая его к церкви, если он отвергает кодексы и смыслы, связанные с ней. В отличие от пролетария, его желание приспосабливаться к занимаемому месту должно быть создано ex nihilo в процессе социализации. Поэтому, если эта социализация терпит неудачу или если он отвергает идею церкви, так же как пролетарий презирает идею наемного труда, то в данном случае не будет действовать какой-либо независимый генератор желаний, побуждающий его подвергать сомнению свои предпочтения, как это происходит с пролетарием, и затем отказываться от них ради зова церкви. Он вполне может сохранить принадлежность к своей религии; или может выбрать другую, соперничающую с ней, или он может решить порвать с религией вообще. Нет ничего, что удерживало бы его в социальной структуре религиозной общины, поскольку ни одно из этих решений само по себе не угрожает его благополучию. Он может с легкостью прийти к любому из них. В его случае процесс создания смысла и в самом деле является контингентным.

Далее, конечно, возможно, что к нему применят какие-то санкции, похожие на те, что применяют к пролетарию, чтобы заставить его заплатить большую цену за отказ от своей роли. Община может предать его остракизму, и он может подвергнуться другим видам социального давления и даже физическому воздействию. Но на самом деле аналогии здесь не наблюдается. В последнем примере мы имеем дело со случаями санкций, вводимых агентами. Они требуют какого-то регулярного контроля со стороны социальных агентов, занимающихся предотвращением случаев подобного отступничества, а также сознательного вмешательства индивидов или общности. Испытывая бремя этих сознательно наложенных санкций, прихожанин волен избежать их и отказаться играть навязываемую ему роль. В случае с пролетарием никто не призывает к чьему либо сознательному вмешательству. Никому не нужно следить за тем, чтобы он принял свою роль, — он примет ее по собственному желанию. Поэтому он будет ориентировать свой смысловой универсум таким образом, чтобы можно было найти и сохранить работу. Но в этом случае, не скажешь, что только что описанная классовая субъектность порождена смысловым значением. Напротив, мы можем предположить, что смысловая ориентация пролетария является следствием его структурного положения.
Логика капиталистического бытия
Рассмотрим теперь ситуацию с работодателем рабочего. Требует ли бытие капиталистом также контингентно приобретаемой смысловой ориентации, чтобы его структурное положение могло оказывать какое-либо воздействие? Что интересно, в социологии имеется уважаемая традиция, дающая утвердительный ответ. В течение почти двух десятилетий послевоенной эпохи многие сторонники теории модернизации задавались вопросом, смогут ли новые развивающиеся страны глобального Юга встать на путь капиталистического развития, как до них это произошло с Европой. Обосновывая свои доводы, что капитализм зависит от особой смысловой ориентации, соответствующей его экономической логике, они вдохновлялись особым прочтением «Протестантской этики» Макса Вебера [7]. С точки зрения данной разновидности веберовской теории важнейшей предпосылкой успешного внедрения капитализма является наличие правильного типа системы ценностей, что ставит распространение этой экономической системы в зависимость от предшествующих изменений в культуре. Отсюда беспокойство, что конфуцианская, буддийская или индуистская религии могут не создать такого нормативного мировоззрения, который протестантизм создал в Западной Европе. Таким образом, рыночные силы, прокладывающие себе дорогу на Востоке, будут оставаться чахлыми, поскольку тамошним торговцам и бизнесменам не достает предпринимательского духа европейских коллег[8].
Теория модернизации в конце 1970-х годов быстро пришла в упадок, отчасти потому, что было очевидным, что регионы, которые должны были бы страдать отсутствием культурно обусловленного предпринимательского духа, развивались не только очень быстро, но и темпам, которые мир ранее никогда не видел. Япония, Корея, Тайвань и даже Индия демонстрировали экономический рост, на порядок больший, чем у любой европейской страны в ходе первых двух промышленных революций. Более того, их частные инвестиции достигли высот, которые всего за два десятилетия до того считались недостижимыми. Откуда исходила мотивация для этих инвестиций в таких разных культурах во многих регионах, если у их экономических субъектов не было соответствующей культурной ориентации? Если и существует особый «дух», который должен быть усвоен капиталистами как предпосылка их успеха, то очевидно, что он весьма широко распространен.
Альтернативное объяснение распространения капиталистических моделей инвестиций заключается в том, что оно не зависит от предшествующего внедрения предпринимательского духа. Скорее, система сама порождает необходимое мировоззрение, посредством давления, оказываемого на капиталистов их структурным положением. Капиталист — это тот, кто не только использует наемный труд, но и должен конкурировать на рынке, выставляя на продажу свои товары. Таким образом, он находится в двойной зависимости от рынка: с одной стороны, ему необходимо приобретать средства производства, вместо того чтобы самому их производить, и с другой стороны ему необходимо получать достаточный доход от продаж, чтобы оставаться на плаву. Жизнь его предприятия зависит от конкурентоспособности на рынке. Единственным эффективным способом достижения этого в долгосрочной перспективе является поиск способов снижения его продажных цен не снижая при этом нормы прибыли. Для этого требуется, чтобы он находил способы повышения эффективности, следовательно, уменьшая издержки производства на единицу продукции и тем самым сохраняя прибыльность, даже когда он сокращает цены или, наоборот, сохраняет их неизменными при улучшении качество продукта. Все это невозможно в долгосрочной перспективе без существенных инвестиций в усовершенствованные факторы производства — лучшие капитальные блага, квалифицированную рабочую силу, материалы и т. д. Это требует, чтобы он сам по собственному желанию отдал приоритет инвестированию своих доходов, а не их потреблению. Если он растратит свои доходы на личное потребление, он, конечно, временно получит больше удовольствия, но ценой снижения своей жизнеспособности как капиталиста. Сама необходимость выжить в конкурентной борьбе принуждает капиталистов взращивать качества, связанные с «предпринимательским духом».
Следовательно, давление, обусловленное его структурным местоположением, навязывает капиталисту свою собственную дисциплину — будь он индусом, мусульманином, конфуцианцем или протестантом. Какова бы ни была его прежняя социализация, он быстро осознает, что ему придется соответствовать правилам, связанным с его положением, или его предприятие разорится. Замечательным свойством современной классовой структуры является то, что любое значительное отклонение капиталиста от логики рыночной конкуренции проявляется в виде каких-либо издержек — отказ сбывать отраву проявляется в потере доли на рынке; стремление использовать более безопасные, но более дорогие материалы проявляется в увеличении издержек производства на единицу продукции и т. д. Таким образом, капиталисты испытывают огромное давление, заставляющее их приспосабливать свою нормативную ориентацию — ценности, цели, этику и т. д. — к социальной структуре, в которую они встроены, а не наоборот, как в случае со многими другими социальными отношениями. Поощряются те моральные нормы и правила, которые этому в конечном счете способствуют. Иногда это может согласовываться с нерыночной моралью, как в случае, когда результатом готовности платить высокую заработную плату просто из стремления соблюдать приличия выступает повышение производительности. Но суть в том, что именно рынок указывает капиталисту, какие элементы его нравственного мира жизнеспособны, а какие нет, а не наоборот.
Конечно, многие не смогут приспособиться. В этих случаях предприятия, которыми они управляют или владеют, утрачивая конкурентоспособность рано или поздно сойдут с дистанции. Но это, в свою очередь, имеет два следствия, которые только усиливают тенденцию к культурной адаптации — во-первых, демонстрационный эффект для других экономических субъектов, как существующих, так и потенциальных капиталистов, которые обнаружат, что нежелание отречься от устаревших ценностей ведет к краху; во-вторых, это уменьшит долю предпринимателей, придерживающихся данных убеждений и, следовательно, уменьшит их влияние на культуру. Следовательно, произойдет своего рода процесс отбора, позволяющий отсеять нормативные ориентации, противоречащие правилам, необходимым капиталистическому воспроизводству. Таким образом, хотя всегда будут те, кто откажется или не сможет адаптировать свой нравственный мир к требованиям капиталистического бытия, сам рынок обеспечит, что они останутся на задворках экономической системы.
Две модели культурного влияния
Предыдущее обсуждение позволяет нам, не принимая при этом культуралистских выводов, признать, что все действия проникнуты смыслами. Можно согласиться с тем, что структуры должны интерпретироваться социальными агентами; можно также согласиться с тем, что реакция социальных агентов на сложившуюся ситуацию зависит от влияния усвоенной ими культуры. Но не обязательно принимать вывод, к которому, отталкиваясь от этих предпосылок, логически приходит мысль многих теоретиков, а именно, что структуры всегда и везде являются следствием смыслов. Выход заключается в том, чтобы провести различие в причинно-следственной логике, лежащей в основе влияния культуры на различные виды социальных отношений. Оба рассмотренных нами ранее примера, согласуются с тем, что структуры должны интерпретироваться, чтобы они влияли на социальных агентов. Разница заключается в том, что более сильный культуралистский тезис придает воздействию культуры большую автономию. Именно это имеют в виду утверждая, что агенты станут приспосабливаться к своему потенциальному структурному положению, только если они усвоили соответствующую нормативную ориентацию. Причинная логика этого суждения может быть представлена следующим образом:

Модель 1. Влияние культуры как опосредствование причины
Культура здесь представлена как причинный механизм, опосредствующий связи между структурой и действием. Опосредствующий механизм не только вклинивается между причинной действующей силой и порождаемой ею следствиями, но и активно формирует характер влияния предшествующей причины[9]. Описание роли смысла указанным образом схватывает утверждение культуралиста, что структуры являются следствием контингентного процесса интернализации ролей социальными агентами. Именно предшествующее порождение смыслов делает возможной социальную структуру; также важно, что не может быть определено заранее, имеется ли соответствующая интерпретативная схема. Именно контингентный результат различных социальных процессов делает жизнестойкость самой структуры крайне нестабильной. Независимость опосредствующего механизма является определяющим элементом в создании им связи между результатом и предшествующей причиной.
Культуралистская аргументация основана на предположении, что если какой-либо механизм становится между причиной и ее следствием, то он, скорее всего, будет функционировать как опосредствующий механизм. Я согласен с тем, что для многих, даже для большинства, социальных отношений эта модель детерминации действительно устанавливает действующую причинную логику. Но примеры наемного работника и капиталиста позволяют предположить, что указанное опосредствование может осуществляться и в совершенно иной форме. В этом другом типе влияния опосредствующий фактор также создает коды и смыслы, необходимые для активизации структур, но теперь его контингентность и, следовательно, его независимость существенно уменьшаются. Он не определяет результат независимо, поскольку он сам формируется предшествующей причиной. Это превращает его, скорее в канал передачи воздействия последней. В этом случае мы имеем структуру, определяющую ориентацию действий агентов посредством генерирования кодов, необходимых для ее активизации.

Модель 2. Опосредствование как трансляция воздействия причины
Обратите внимание, что в обеих моделях непосредственной причиной социального действия является культура. Таким образом, обе модели согласуются с теоремой о том, что функционирование структур требует интерпретации их субъектами. Они различаются в том, как культура соотносится с предшествующей социальной структурой. В модели 1 культура более или менее автономна от структуры и тем самым оказывает независимое влияние на действие. Но в модели 2 подразумевается, что социальная структура ограничивает разнообразие культурных норм и правил. Изогнутые стрелки обозначают петлю обратной связи, устанавливающей совместимость культурных кодов агентов с классовой структурой. Чтобы это отношение было отношением совместимости, а не однозначной непосредственной причинной детерминации, классовая структура не должна требовать какой-либо одной определенной констелляции смыслов. Поскольку единственным требованием является соблюдение условия функциональной совместимости, подойдет любое количество вариантов. Причинная связь между экономической структурой и смысловым универсумом агентов является отношением отрицательного отбора — она просто подавляет желания, побуждающие агента игнорировать или отклонять требования структур. Вот почему оказывается, что капиталистическое классовое принуждение может укореняться в самых разных культурах. Ибо до тех пор, пока местная культура соответствующим образом мотивирует субъектов (работники выходят на работу и делают то, что велит им делать работодатель, а капиталисты делали все возможное для максимизации прибыли) она вполне соответствует требованиям структуры.
У данной модели имеется еще один скрытый смысл, достойный быть отмеченным, а именно то, что она требует, чтобы только те аспекты культурной среды приспосабливались к классовой структуре, которые вступают с последней в конфликт. Классовая структура отвергает те аспекты местной культуры, которые препятствуют рабочим и капиталистам приноравливаться к своим экономическим ролям. Это означает, что аспекты нормативного поля, которые непосредственно и органически не связаны с экономическими действиями, имеют лишь контингентное взаимоотношения с классовой структурой. Они могут остаться неизменными; они могут измениться вследствие каких-либо непреднамеренных практических последствий деятельности класса; или они могут измениться из-за социальной динамики, совершенно не связанной с экономической структурой. Суть в том, что отсутствует какая-либо систематическая причинно-следственная связь между этими двумя явлениями. Следовательно, прямое воздействие капиталистических отношений на окружающую культуру может быть весьма ограниченным.
Данная модель культурного влияния позволяет нам осмыслить не только тот бесспорный факт, что капитализм распространился по всему миру, но и то, что наиболее вероятные субъекты в этих весьма различных экономиках — частные предприятия и наемные работники — действуют в соответствии с весьма сходными схемами воспроизводства, наблюдаемыми в потрясающе разнообразном диапазоне культур и традиций. Модель позволяет сделать это, не отбрасывая мысль о том, что экономика столь же погружена в культуру, как и любая другая сфера социальных действий. Следовательно, если предложенная мной идея верна, то сомнения в материализме, что он будто бы не способен признать важности смысловой ориентации социального действия, оказывается необоснованным.
Классообразование и культурное вмешательство
До сих пор мы рассматривали, каким образом капиталисты и рабочие, независимо от сложившейся у них ранее смысловой ориентации, приспосабливаются к правилам, созданным их структурным положением. Если обратиться теперь к более глубокому исследованию их классовой ситуации, одним из ее центральных аспектов окажется то, что она также связывает двух субъектов в весьма конфликтных отношениях. Капиталисты обнаружат, что для того, чтобы оставаться конкурентоспособными, им придется выжимать максимальное количество труда из своих работников при минимально возможных издержках. Поскольку заработная плата является ключевым компонентом издержек, разумным с точки зрения отдельного капиталиста будет экономить на заработной плате, даже если он стремится выжать из своих рабочих каждую единицу труда. Но рабочие ощущают это как прямую атаку на свое собственное благополучие, и их ответ заключается в поиске способов увеличения своего вознаграждение при уменьшении количества усилий, которые они должны дать взамен. Стремление работодателей максимизировать прибыль заключает два класса в отношения, в которых один нуждается в другом, но существует конфликт интересов по поводу условий их обмена.

Этот конфликт может принимать множество форм. Общеизвестно предсказание Маркса, что рабочие признают достоинства коллективного стремления к реализации своих общих интересов и объединятся с этой целью в организации. Следовательно, их структурное положение породит процесс формирования коллективной идентичности, который, в свою очередь, откроет дорогу осуществлению их общих интересов. Таким образом он описывал превращение класса в себе в класс для себя. Следует отметить, что, хотя иногда это называют телеологическим объяснением классообразования, — и, действительно, история в этом случае приобретает именно такой вид — это вовсе не обязательно должно быть так. Можно это переформулировать в разумную теорию, раскрывающую причины и дающую представление о том, каким образом область структурного положения рабочих делает коллективные действия не только рациональными, но и имеющими шансы на успех.
Во-первых, сам капитализм частично организует рабочих, поскольку он сводит их на одном рабочем месте. Если сравнить их ситуацию с ситуацией крестьян, владеющих небольшими наделами, то ясно, что опыт повторяющегося взаимодействия в замкнутом пространстве в течение длительного периода времени снижает затраты на некоторые важнейшие элементы коллективных действий —общение, обмен информацией, планирование и т. д. Во-вторых, объединяясь, они начинают осознавать ситуацию, в которой они все вместе оказались. Они видят, что все они подвержены весьма сходным ограничениям, что они действуют в рамках одних и тех же структур власти и страдают от одних и тех же обязательств. В-третьих, в этом постоянном взаимодействии они создают общую идентичность и, следовательно, готовность участвовать в общих действиях.
Хотя мысль Маркса может быть представлена в приемлемой причинной форме, высказанная в отношении ее критика довольно убедительна. Имеются эпизоды и случаи, когда рабочие объединялись согласно его прогнозам, но в истории были весьма длительные периоды, когда наблюдалось нечто противоположное — не конфликт, а стабильность. Рабочие проявили желание создавать организации для ведения коллективной борьбы, но это вряд ли можно рассматривать как типичное явление при капитализме. В равной степени вероятна ситуация, когда усилия, предпринятые для объединения класса, терпят неудачу или когда их вообще избегают. Массовое членство в профсоюзах — недавнее явление в истории капитализма и в значительной степени ограниченное лишь частью глобального рабочего класса. Следовательно, самое большее, что мы можем сказать в пользу прогноза Маркса, — это то, что оно очерчивает лишь один из возможных результатов, создаваемых современной классовой структурой. И нетрудно понять, почему при отсутствии объяснения механизмов, подрывающих эту причинную последовательность, теория может превратиться в разновидность телеологического подхода или, по крайней мере, в неоправданно детерминистскую конструкцию — структурное положение работников рассматривается при таком подходе как само по себе достаточное, чтобы привести к формированию классовой идентичности, что затем побуждает их создавать на ее основе организации и, наконец, продвигаться к достижению своих общих интересов.
Настоятельной задачей материалистической теории является объяснение того, что, хотя при определенных обстоятельствах классовое положение рабочих может сплачивать их вокруг стратегии коллективного сопротивления, оно также может мотивировать их к реализации стратегии индивидуального приспособления. Классовое сознание и формы противостояния, с ним связанные, можно рассматривать как продукт некоторых очень специфических условий, которые необходимо создавать и воспроизводить, а не предполагать, что они сложатся сами собой благодаря внутренней логике классовой структуры. Отсутствие у рабочих классового сознания и спорадический или непродолжительный взрыв классового конфликта могут затем рассматриваться как полностью согласующиеся с классовым анализом капитализма, а не как признак снижения значимости класса.
Две стратегии классового воспроизводства — индивидуализированная и организованная
Ключ к загадке классообразования лежит в том, что оптимистичные прогнозы, подобные прогнозам Маркса, даже когда они представлены на научно обоснованном языке причинных связей, не делают решающего шага. Они сосредоточены на причинных механизмах, побуждающих работников к классовой организации, но не могут объяснить тех аспектов классовой структуры, которые противодействуют подобному ходу дел. Но важнейшее свойство капиталистической классовой структуры состоит в том, что она ставит работников в такое положение, что они обычно считают индивидуализированный способ классового воспроизводства более осуществимым, чем способ, основанный на коллективной организации. Большую роль играют здесь две группы препятствий. Первая состоит в изначальной уязвимости рабочих по отношению к власти работодателей, а другая — в общих проблемах, возникающих в коллективных действиях.
Уязвимость рабочих
Рабочие и их работодатели не вовлекаются в политическую борьбу в нейтральном окружении. Они объединяются в уже существующем поле власти, на котором работодатель обладает огромным рычагом воздействия на рабочего. Причина этого кроется в самой классовой структуре. Рабочие действуют в условиях всеобщей незащищенности. Поскольку они не владеют собственными производственными активами, они зависят от найма на работу к капиталистам. Эта зависимость от работодателя решающим образом формирует их склонность и способность к коллективному действию. Рабочие понимают, что они могут удержаться на своей работе только до тех пор, пока этого желает капиталист, который может по любым различным причинам решить выбросить одного или многих из них обратно на рынок труда. Негарантированность занятости — это исходное условие, встроенное в положение рабочего, хотя, конечно, его интенсивность будет варьироваться в зависимости от того, насколько сложно заменить какого-либо конкретного работника. Следовательно, хотя работодатели не обладают прямой юридической или культурной властью над жизнью какого-либо конкретного рабочего, как это бывает в условиях рабства или крепостного права, они по-прежнему обладают огромной косвенной властью над ним.
Это напрямую касается вероятности коллективных действий. Работники обычно должны предпочитать безопасность своей занятости борьбе за условия этой занятости – другими словами, они понимают, что наличие плохо оплачиваемой или опасной работы предпочтительнее, чем не иметь никакой работы вообще. Но если приоритет работников заключается в том, чтобы сохранить работу, это может означать только то, что они сознательно откажутся от действий, которые повлекут ответный удар босса. В действительности, до тех пор, пока наемные работники еще не сплочены в организацию, наиболее привлекательным путем повышения уровня безопасности своей работы для них будет не противодействие боссу, а увеличение его заинтересованности в них — более усердной по сравнению с другими работой, приобретением новых навыков, даже согласием работать за меньшую плату.
В условиях всеобщей конкуренции на рынке труда более простым средством повышения безопасности является не создание формальных организаций для коллективных действий, поскольку это неизбежно ведет к конфликту с работодателем, а опора на неформальные сети, в которых происходит жизнедеятельность рабочих. Обычно это сети родства, кастовой, этнической, расовой принадлежности т. д. Поскольку работники, по существу, наследуют эти уже существующие связи, последние становятся естественным источником поддержки в обычные времена и особенно во времена лишений. Ирония буржуазного общества заключается в том, что отнюдь не разрушая этих нерыночных связей, о чем Маркс с такой помпой объявил в «Манифесте Коммунистической партии», оно побуждает рабочих отчаянно цепляться за них. Важно отметить, что эти сети не действуют как простые общества материальной поддержки. Они также становятся средством контроля над рынком труда и тем самым снижают уровень конкуренции за занятость. Дело обстоит не так, что рабочие места обеспечиваются просто посредством дружеских, семейных или кастовых связей. Эти связи используются, чтобы увеличивать возможности трудоустройства, иногда силой, членов своей собственной сети. Но это только усиливает классовую ориентацию, в которой благосостояние достигается с помощью неклассовых форм связей. Действительно, организованная конкуренция на рынке труда посредством таких связей приводит к усилению разногласий внутри класса. Это прямо противоречит принципу классовой организации.
Агрегирование интересов
Второе препятствие на пути формированию класса образует то, что Клаус Оффе и Хельмут Визенталь назвали проблемой агрегированием интересов[10]. Достаточно просто предположить, что работники заинтересованы в создании объединений, чтобы вести переговоры об условиях взаимообмена с капиталом. Но работники страдают от конкретного соотношения обязательств в рамках этого обмена. В отличие от капитала, который может быть отделен от личности работодателя, трудовая сила не может быть отделена от личности рабочего. Когда рабочий переговаривается об условиях обмена своей трудовой деятельности, он сразу же сталкивается с тем, что некоторые элементы его благополучия должны подвергаться прямому расчету — интенсивность работы, продолжительность рабочего дня, уровень заработной платы, медицинская страховка, пенсии и так далее. Таким образом, организации, созданные для коллективных действий, стоят перед необходимостью достигать согласия по поводу различных аспектов благосостояния между большим количеством рабочих.
Второе и столь же устрашающее препятствие состоит в том, что коллективная организация может на самом деле ухудшить положение некоторых работников. Это связано с тем, что некоторые рабочие могут обеспечить себе особенно выгодные условия, обладая, возможно, редкой квалификацией и некими определенными социальными связями, что делает для них стратегию индивидуальных переговоров более выгодной, чем стратегию коллективных действий. Хотя в предыдущем случае коллективные действия потребуют выдвинуть на первый план ряд целей из более широкого списка целей в основном совпадающих, в данном случае они потребуют, чтобы некоторые рабочие подчинили свое непосредственное благосостояние более широкой программе. Конечно, в долгосрочной перспективе эти работники также выиграют во многих отношениях от безопасности и получения рычагов влияния, которыми наделяет их членство в объединении, но сокращение непосредственного благосостояния будет реальным, и они на вполне рациональных основаниях могут отказаться вступать в него. Следовательно, если нужно вернуть их в строй, то следует помнить, что они должны будут принимать решения на основании расчетов, существенно отличающихся от расчётов их коллег.
Проблема «безбилетников»
Третьим и, возможно, наиболее ослабляющим препятствием является известная проблема «безбилетничества». Поскольку условия и выгоды, которых добиваются объединения, распространяются на всех их членов независимо от степени вклада последних, это порождает ложный обратный стимул. Поскольку каждый работник знает, что он выиграет, если объединение добьется успехов в достижении своих целей, независимо от его индивидуального участия в нем, но что ему будет не хуже, если он самоустранится от борьбы, это создает огромный стимул для него, чтобы переложить издержки участия на других. В результате борьба за консолидацию силы объединения должна постоянно преодолевать наблюдающуюся у рабочих тенденцию воздерживаться от участия в деятельности объединения.
Безбилетничество возникает всегда, когда общее благо требует коллективных действий. Но в ситуации всеобщей уязвимости и взаимной конкуренции, характерной для структурного положения рабочих, оно становится особенно ослабляющим. Дело не только в том, что отдельный рабочий будет нести потери, если решит содействовать созданию объединения на классовой основе. Дело в том, что потери могут быть настолько высокими, что это будет угрожать его средствам существования и, следовательно, его экономической безопасности. Шансы понести указанные потери на самом деле довольно высоки, поскольку работодатели прилагают значительные усилия для контроля, а затем увольняют сотрудников, которые проявляют склонность к созданию классовых организаций. Следовательно, даже несмотря на то, что наемные рабочие имеют богатую историю борьбы с проблемами безбилетничества за пределами рабочего места, когда риски, связанные с этими усилиями, ниже, гораздо труднее бороться с безбилетничеством на работе, где риски намного больше, что усиливает общую дилемму[11].
Все три описанные мной механизма неразрывно связаны с классовой структурой; они являются ее необходимым компонентом. Все три механизма ведут к усилению атомизирующего эффекта на рынке труда и ослаблению импульса к коллективному действию и классовому сознанию. Они помогают раскрыть секрет одной из самых важных для социальной теории загадок: каким образом социальная система настолько потенциально взрывоопасная, как капитализм, может в течение долгого времени оставаться стабильной? Причина в том, что ее классовая структура обеспечивает собственную стабильность, делая индивидуальное воспроизводство привлекательнее организованной борьбы. Классовые антагонизмы сделали бы капитализм нестабильным, если бы рабочие могли как нечто само собой разумеющееся объединяться, создавать жизнеспособные организации для достижения своих интересов и угрожать политической власти класса капиталистов. Но эти препятствия имеют замечательный эффект, делающий более привлекательным для рабочих отказ от коллективных стратегий и выбор вместо них индивидуализированной защиты своего базового благосостояния. Это происходит из-за того, что принятие более индивидуализированных стратегий требует меньших прямых издержек — совокупных затрат времени и денег, идущих на создание союза и его воспроизводства, а также влечет меньше рисков, таких как риск потери работы, если вскроется их участи, или если они проиграют, используя более воинственную тактику.
Следовательно, хотя работники в определенных условиях могут создать требуемую классовой борьбой коллективную идентичность, они должны преодолеть структурные силы, которые постоянно разъединяют их. Отнюдь не впадая в телеологическое объяснение образования классов, тщательное изучение базовой структуры системы приводит к противоположному выводу: нет простого пути от Марксового класса в себе к классу для себя. В самом деле, проблема теперь выглядит совершенно иначе по сравнению с той, которую приписывают классовому анализу ее критики. Вместо того, чтобы отвечать на вопрос, почему классовая структура не может побудить рабочих к классовой борьбе, задача состоит в том, чтобы объяснить, как получается, что вообще возникает сила единого рабочего класса и начинает осуществляться коллективная классовая стратегия. Этот вопрос разбирается в следующем разделе, и, как я покажу, именно здесь культурные явления играют важную роль.
Возвращение культуры в классовый анализ
Образование класса происходит, когда рабочие ищут коллективные стратегии защиты своего благосостояния, в отличие от индивидуализированных, обычно более привлекательных. Это требует, в свою очередь, ослабления механизмов, отвлекающих их энергию от создания коллективной организации, или повышения готовности рабочих принимать на себя издержки, сопряженные с организацией. Это два аналитически различных решения проблемы классообразования, каждое из которых нацелено на один из двух элементов, сообща влияющих на результат. Первый ослабляет воздействие внешней среды, под влиянием которой рабочие принимают решения; другой изменяет нравственные основы расчетов, исходя из которых рабочие оценивают внешнюю среду.
Иногда случается, что работники оказываются в ситуациях, когда препятствия для организации класса изначально не столь велики. Следовательно, более квалифицированные рабочие, которым труднее найти замену, менее уязвимы перед лицом мести работодателей, если они создают классовые организации[12]. Но естественно преимущества, подобные этим, не являются всеобщими, и даже когда они есть, их самих по себе недостаточно. Даже когда рабочие получают некоторую возможность устранения обычных препятствий на пути превращения в класс, этого никогда не бывает достаточно, чтобы нейтрализовать риски, вытекающие из создания организации. Следовательно, у рабочих никогда не бывает легкой дороги к самоорганизации, что обусловлено их профессией или положением. У них может быть больше рычагов воздействия на работодателей, но это не означает установления равенства; им может быть легче выработать общую позицию, но технические изменения постоянно разрушают достигнутое ими согласие; и даже когда их затраты времени и усилий, могут быть уменьшены, они никогда не опускаются до нуля, поэтому стремление увильнуть от участия в борьбе сохраняет привлекательность. Решение этой проблемы требует чего-то большего, чем счастливое стечение обстоятельств, позволяющее рабочим создавать стабильные и устойчивые классовые организации.
Незаменимой, помимо благоприятной внешней среды, является культурная составляющая — сдвиг в нормативной ориентации рабочих от индивидуализма к солидарности. Это напрямую вытекает из того факта, что, принимая на себя бремя строительства организации, каждый рабочий должен добровольно жертвовать скудными ресурсами на дело, которое с большой долей вероятности закончится неудачей, что на самом деле часто и происходит. Белобилетничество — самый привлекательный ответ с индивидуальной точки зрения, поэтому, чтобы избежать его, рабочие должны включать в свои расчеты благосостояние своих товарищей, а не только свое собственное. Они должны оценивать возможные последствия, по крайней мере частично, для их сотоварищей из чувства долга и ради коллективного блага. В этом и заключается суть солидарности, и не случайно, что «солидарность» была лозунгом рабочего движения во всем мире с момента его создания. Побуждая каждого рабочего рассматривать благополучие своих товарищей как имеющее непосредственное отношение к нему самому, этос солидарности противодействует индивидуализирующим эффектам, обычно порождаемым капитализмом. При этом он позволяет создавать коллективную идентичность, которая, в свою очередь, является культурной составляющей классовой борьбы[13].
Здесь нужно подчеркнуть два момента. Во-первых, создание этоса солидарности обычно требует сознательного действия: он не порождается автоматически структурой класса. Элементы взаимности и сопереживания — это, конечно, повседневная часть жизни рабочего класса. Рабочие часто различным образом сотрудничают на рабочем месте, чтобы защитить себя от власти управленцев. Иногда солидарность носит неявный и невыраженный в словах характер — как в случаях, когда рабочие отказываются доносить друг на друга или подменяют своих менее производительных товарищей. В других случаях эта солидарность выражена более явственно, как в случаях, когда рабочие участвуют в намеренном замедлении работы, создании обществ взаимопомощи и т. д. Но эти формы сотрудничества часто эфемерны и зависят от конкретных сочетаний индивидов; самое главное, поскольку у них нет организационной устойчивости, они не создают достаточно надежных и прочных отношений доверия, позволяющих раз за разом преодолевать центробежные силы, разъединяющие рабочих. Рабочие знают, что в нормальных условиях они могут рассчитывать на симпатию своих коллег, но никогда не ясно, насколько можно полагаться на них и насколько глубоким может быть доверие.

Для того, чтобы культура солидарности стала частью стратегической ориентации рабочих, необходимо сознательное руководство и субъектность. В своей наиболее слабой форме это предполагает наличие совокупности устоявшихся практик внутри и за пределами работы, призванных способствовать построению отношений и, посредством этого, чувства доверия и взаимных обязательств, которые могут способствовать организации класса — ежемесячные пикники, регулярные встречи для высказывания жалоб, церковные церемонии, культурные мероприятия, такие как постановка пьес и концерты и т. д. Все это примеры порождающих культуру действий, инициируемых организаторами, но их не достаточно для создания организацию. Они часто совершаются в условиях, когда попросту слишком опасно создавать настоящее рабочее объединение, что даже сегодня является реальностью в большей части глобального Юга, или они являются подготовкой к созданию официальной организации.
Разумеется, более сильная форма культурного воздействия является результатом создания официальной организации, такой как профсоюз или партия, охватывающей многие из неформальных установившихся практик, используемых и в ее отсутствие, но выходящей за ее рамки при конструировании идентичности рабочего класса. Организации охватывают большую часть описанных мной неформальных практик, но они придают им постоянство и структуру, делая неотъемлемой частью жизни рабочего класса. Что еще более важно, они связывают коллективное стремление рабочих к коллективному благосостоянию с коллективным принятием решения о стратегии. Следствием спонтанного ощущения сопричастности и неформальные практики становится возникновение определенного доверия среди рабочих, хотя все это не создает надежного механизма координации их действий. Организации создают основу для большего доверия и координации, поскольку они подкреплены своеобразным институциональным обязательством поддерживать своих членов. Столь же важно, что, поскольку решения являются легитимными, поскольку принимаются в обстановке обсуждений и демократии, даже при том, что есть голосующие против принятия данных решений. Следовательно, когда раздается призыв к действию в форме забастовки или замедления работы, он воспринимается не столько как команда сверху, сколько как самопобуждение.
"Солидарность не эволюционирует в альтруизм, и готовность жертвовать не означает принятие мученичества."
Второй момент, который необходимо отметить, заключается в том, что, хотя создание идентичности рабочего класса, является актом социального воздействия, это не социальное конструирование. Культура взаимной идентификации, требуемая для формирования класса, не создается сразу целиком и не создает совершенно нового политического расчета. Он строится на основе и по-прежнему ограничивается материальными интересами. Следовательно, даже когда работники могут и действуют с чувством ответственности за благополучие своих товарищей, это не значит, что они забывают о собственном благополучии. Подобным же образом, хотя от рабочих могут потребоваться риски и жертвы для достижения коллективной цели, их готовность жертвовать не превратится в безграничный альтруизм. Конечно, возможны обе более крайние ориентации; они, как правило, определяют качества людей, известных как организаторы или — на ужасном жаргоне социальных наук — как «политические предприниматели». Это члены класса, смысл жизни которых состоит в преданности классовой организации ценой огромных личных затрат, а нередко и большого риска. Но сам факт, что они выделяются как отдельный слой в классе, свидетельствует о том, что они не типичны. Основная задача организаторов не побуждать всех остальных быть такими же, как они, поскольку они знают, что это пустое дело. Скорее они должны убедить товарищей в том, что организации и кампании, которые они пропагандируют, желательны и возможны. При известном риске и издержках, которые понесут участники, они оправданы из-за обещанных достижений — с точки зрения безопасности, заработной платы, автономии и т. д. Солидарность не эволюционирует в альтруизм, и готовность жертвовать не означает принятие мученичества.
Эта сохраняющаяся значимость материальных интересов очевидна в нескольких аспектах организации рабочего класса. Многие из основополагающих элементов профсоюзного движения имеют своей целью в первую очередь снижение индивидуальных издержек, предполагаемых при коллективных действиях. Классическим примером является создание забастовочного фонда, чтобы рабочие могли пережить временные трудности в случае остановки работы. Фонд действует как своего рода программа страхования со взносами рабочих, вступающая в силу в случае забастовки. Причина, по которой каждый профсоюз пытается его создать, в высшей степени практична — это признание того факта, что их члены не будут участвовать в кампании, основанной только на принципе или идентичности. Их готовность принимать на себя обязательства обусловлена их оценкой предполагаемых при этом затрат — их способностью брать на себя издержки, которые она повлечет за собой. Институты, подобные забастовочным фондам, обеспечивают материальную поддержку, на которой строится солидарность.
Поэтому рабочие в определенной степени оценивают ситуацию исходя из того, что требуется сделать. Но они также оценивают и практичность своего дела, то есть цели кампании. Рабочие оценивают кампанию не только с точки зрения абсолютных затрат, которые от них требуются, но и с точки зрения достижимости ее целей. Существуют пределы, при выходе за которые они рассматривают затраты как не оправданные вероятностью успеха. Они будут воспринимать определенный уровень жертв как разумный, если посчитают цель достижимой, в то время как та же цена будет неприемлема, если возникнет опасение по поводу реалистичности цели. Конечно, нет науки точной оценки того, какие цели достижимы и, следовательно, связанный с ним риск находится на приемлемом уровне, а какие — нет. Суждения об этом иногда оказываются ошибочными; в этом случае они могут привести к утрате доверия к организации и, следовательно, к уменьшению ее легитимности. Таким образом, политические организаторы сталкиваются со следующей задачей: если их суждения о реалистичности кампаний точны, это может инициировать благотворный цикл, в котором успех порождает доверие рабочих к организации и друг к другу, что затем позволяет проводить более амбициозные кампании, что, в свою очередь, увеличивает силу классовой организации. Но если их оценки ошибочны и стремление к чрезмерно амбициозным целям приводит к поражению, это может привести к утрате доверия со стороны членов профсоюза, их деморализации, отказу от солидарности и возвращению к оборонительной индивидуалистической ориентации.
Эти аспекты жизнедеятельности классовых организаций вновь показывают, что рациональный выбор рабочих может заключаться в отказе от организации. Классический марксизм часто представлял положение рабочих таким образом, будто единственным разумным выбором для них является создание классовых объединений. Когда выяснилось, что поддержка этой стратегии в самом рабочем классе является в лучшем случае неравномерной, неудивительно, что некоторые ранние марксисты объясняли это крахом рациональности у рабочих — это была теория ложного сознания. Иными словами, они настаивали на правильности марксистской теории и на том, что именно рабочие заблуждаются в суждениях о своих собственных интересах. Конечно, верно, что каждый может быть введен в заблуждение или ошибаться в суждениях о том, наносится ли вред чьим-либо интересам или нет. Но теория, которая приписывает крупным общественным группам систематическую неспособность правильно оценивать свои интересы, грешит довольно впечатляющим предвзятым и односторонним пониманием проблемы.
Более правдоподобная концептуализация проблемы такова: когда работники рассматривают привлекательность классовых ассоциаций, они неявно сравнивают возможности их создания с альтернативным вариантом индивидуализированной стратегии воспроизводства, и каждый из этих вариантов обладает некими преимуществами. В то время как коллективистская альтернатива дает больше рычагов воздействия на работодателя и, следовательно, возможность материального выигрыша, она также подвергает рабочих новым рискам и ряду издержек, которых они в другом случае не несли бы, при прочих равных условиях. Организаторы в некотором смысле требуют от рабочих выбирать между двумя стратегиями, каждая из которых несет собственную матрицу риска/вознаграждения. Индивидуализированный способ предлагает более низкие непосредственные риски, но также обрекает рабочего на постоянный менеджерский деспотизм и более низкое экономическое благосостояние, в то время как коллективная стратегия обещает большую власть и лучшие экономические результаты, но большей потенциальной ценой. Трудная работа по организации заключается не просто в том, чтобы побудить рабочих к действию, а в том, чтобы привлечь их к членству, изменив матрицу риска/вознаграждения, которая обычно отбивает у них охоту присоединяться к профсоюзу или участвовать в его кампаниях, тем самым делая коллективную стратегию более привлекательной. Если издержки слишком велики или если кампании терпят неудачу, солидарность или не возникнет, или начнет разрушаться. Затем рабочие начинают склоняться к тому, чтобы ради сохранения безопасности не лезть на рожон, возвращаясь к индивидуальной стратегии воспроизводства.
В целом классобразование требует непрерывного процесса культурного воздействия, но его эффективность обусловлена согласованностью с материальными интересами рабочих. Это включение культуры в классовую политику является свидетельством того, что классовая идентичность — это не естественный или неизбежный продукт классовой структуры. Более того, потенциальные последствия моей аргументации таковы, что она переворачивает классическое марксистское объяснение. В классическом объяснении классовая структура порождает классовое сознание, что, в свою очередь, побуждает рабочих создавать классовые организации. Я утверждаю, что в действительности классовое сознание является следствием классовой организации. Поскольку последняя представляет собой напряженный процесс, крайне уязвимый и неустойчивый в своей основе, таковым является и формирование классовой идентичности. Следовательно, тот факт, что рабочие часто не идентифицируют свои интересы со своим классовым положением, не является свидетельством слабости материалистической теории классов, это вытекает из самой теории.
Заключение
После чересчур продолжительного перерыва научное внимание вновь обращается, хотя медленно и неуверенно, к теоретизированию капитализма как экономической системы. Поворот произошел полвека назад после мощной вспышки глобальных выступлений трудящихся конца 1960-х годов и может продолжаться в указанном направлении и сегодня, если продолжится бунт против неолиберализма. Но если возвращение к анализу капитализма должно быть действительно продуктивным, необходимо избегать ошибок, уводивших с правильного пути в прошлом. Одним из наиболее важных примеров является двусмысленность в отношении роли культуры в структурных и политических аспектах классовых процессов. Осознание невнимания к культуре стало оправданием в последние два десятилетия аналитического завышения значимости ее роли. Но противоядие заключается не в том, чтобы просто вернуться к политической экономии, будто бы критики, исходящей от культурного поворота, не было и в помине. Важно усвоить аргументы от культуры и принять брошенный ими вызов. В этой статье я попытался показать, что, хотя опасения, высказанные теоретиками культуры, оправданы, они не столь вредоносны для материалистического анализа класса, как это может показаться. Можно согласиться с предпосылкой, что все социальные действия процеживаются через культуру, и в то же время спорить с выводом, что классовая структура, следовательно, формируется в основном культурой. С другой стороны, есть все основания поддержать идею причинной значимости культуры в процессе формирования класса, сознавая при этом, что она не может устранить значимость базовых материальных интересов, управляющих политическими конфликтами. Культура продолжает действовать в обоих измерениях воспроизводства класса, хотя и в различной степени. Из этого вытекают два важных вывода.
Во-первых, мы можем подтвердить старую максиму, что понятие класса в основном касается интересов и власти. Мы видели, что материальные интересы играют главную роль как в классовой структуре, так и в динамике классообразования. Это позволяет нам объяснить, как получается, что капитализм может распространяясь, оставаться стабильным и генерировать распознаваемые типичные образцы экономических действий в невероятном разнообразии культур и регионов. Это возможно, поскольку капитализм оказывает влияние на разные аспекты совокупности мотиваций агентов, которые, даже при том, что они испытывают влияние местных культур, не создаются ими. Второй вывод заключается в том, что, хотя мы можем подтвердить эту универсальность капиталистической динамики, важное место в ее описании по-прежнему занимает культурный анализ. Это важно, поскольку одним из опасений, породивших культурный поворот, было то, что структурный анализ капитализма, по-видимому, воспринимал культуру как каузально несущественную и, следовательно, ничего не мог сказать о том, каким образом экономические действия взаимодействуют с конструированием смыслов.
Обосновываемая мною идея показывает, что культурный анализ может быть соединен с материалистической теорией класса весьма определенными образами, различающимися двумя рассмотренными нами аспектами класса. Если верно, что смысловая ориентация агентов должна приспосабливаться к требованиям их классового положения, тогда задача культурной теории заключается в отслеживании процессов, посредством которых происходит это приспособление. Они, безусловно, будут различаться от места к месту — способ включения логики экономического положения в мировоззрение индуистских рабочих в Индии будет, вероятно, отличаться от такового у католиков в Мексике. Более того, вопрос может решаться на разных уровнях анализа — от этно-методологических исследований фабрики или шахтерского поселка на микроуровне до регионального или национального анализа культурных изменений. С другой стороны, задача исследования классообразования состоит в том, чтобы прояснить условия, при которых политическая идентичность формируется именно вокруг классового, а не других аспектов социального положения агентов. Конечно, по этому вопросу уже разработана достаточно богатая жила исторических исследований, хотя слой социологической литературы довольно тонок. Дело в том, что культура занимает в материалистическом классовом анализе не меньше места, чем в любом другом. Отличие заключается в признании особенного характера причинной роли, придаваемого культуре.
Перевел Андрей Малюк по публикации: Chibber, V., 2017. "Rescuing class from the cultural turn". In: Catalyst. Available 8.01.2017 at: [link]
Читайте также:
Теорії класової боротьби та їхня критика (Денис Пілаш)
Чи застрягла соціологія посередині? Користь від марксистської теорії (Майкл Маккарті)
«Середній клас» як «порожній означник»: клас і міське спільне в ХХІ столітті (Дон Калб)
Деградація праці у двадцятому столітті (Гаррі Брейверман)
Примечания
1. Thomas Piketty, Capital in the Twenty-First Century (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2014).↩
2. Wolfgang Streeck, Re-Forming Capitalism: Institutional Change in German Political Economy (Cambridge: Cambridge University Press, 2010); Wolfgang Streeck, Buying Time: The Delayed Crisis of Democratic Capitalism (London: Verso, 2014); и особенно его интервью, опубликованное на Jacobin, “Social Democracy’s Last Rounds,” February 25, 2016.↩
3. William Sewell, The Logics of History (Chicago: University of Chicago Press, 2000). Сьюэлл входит в группу, которая начала издавать новый журнал «Critical Studies in History» в значительной степени с целью оживить возвращение к исследованию капитализма.↩
4. William Sewell, “A Theory of Structure,” in Logics of History (Chicago: University of Chicago Press, 2000), 135–36, выделено автором.↩
5. Обсуждение классовой структуры и класообразования см. в книге Erik Olin Wright, Classes (London: Verso, 1985). Я должен признать то огромное влияние, которое работа Райта оказала на эту статью.↩
6. Эта критика настолько широко распространена, что стала чем-то вроде здравого смысла в этой области. Убедительные и влиятельные аргументы, исходящие из двух разных концов света приводятся в Margaret Somers, “Narrativity, Narrative Identity, and Social Action: Rethinking English Working-Class Formation,” Social Science History, Vol. 16, No. 4 (Winter, 1992), 591–630, esp. 594–98; and Dipesh Chakrabarty, Rethinking Working Class History (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1989), 220–22.↩
7. Я называю это особым прочтением Вебера, потому что даже если оно дает правдоподобную интерпретацию «Протестантской этики», оно на самом деле несколько непоследовательно в доказательстве определяющей роли культуры. Но это нужно рассмотреть в другом месте.↩
8. Аргументы в пользу того, что культурная ориентация индусов является препятствием для капиталистического развития см. в K.W. Kapp, Hindu Culture, Economic Development and Economic Planning in India (Bombay: Asia Publishing House, 1963), and V. Mishra, Hinduism and Economic Growth (Bombay: Oxford University Press, 1962); менее пессимистический взгляд автора, соглашающегося с тем, что капитализм требует предшествующего существования соответствующего культурного мировоззрения, см. в Milton Singer, “Cultural Values in India’s Economic Development,” Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 305 (May 1956): 81–91.↩
9. Описание причинно-следственной логики механизмов медиации см. у Erik Olin Wright, Class, Crisis and the State (London: Verso, 1978), 23–25.↩
10. Claus Offe and Helmut Wiesenthal, “The Two Logics of Collective Action,” Political Power and Social Theory, Vol. 1 (1980): 67–115. Это эссе остается основополагающим анализом дилемм классообразования при капитализме.↩
11. Как утверждают Оффе и Визенталь, ограничение способности работодателей к коллективным действиям заметно различаются в отношении всех трех факторов. Во-первых, и это самое важное, хотя рабочим необходима объединенная сила, чтобы добиваться лучших условий на бирже труда, работодателю это не нужно. Его структурное положение наделяет его превосходящей переговорной силой на индивидуальном уровне. Это само по себе настолько существенно склоняет соотношение сил в его пользу, что превосходит по важности все другие факторы. Но в тех случаях, когда возникает необходимость, как, например, когда работодатели объединяются в ответ на организационный успех труда, препятствия на пути к этому относительно уменьшаются. Во-первых, и наиболее очевидно, что работодатели не столкнутся с риском возмездия со стороны своего антагониста, поскольку власть нанимать и увольнять монополизирована ими по определению. Ни один капиталист не боится быть уволенным рабочим или коллективом рабочих, если они узнают, что он инициирует объединение работодателей. Во-вторых, даже несмотря на то, что капиталисты конкурируют на рынках, в конфронтации с рабочими различия их интересов не слишком им препятствует. Фирмы, как правило, испытывают большие трудности с тем, чтобы сохранять согласие в условиях возможностей сорвать прибыль за счет друг друга. Проблема куда меньше, когда они объединяются для противодействия рабочей организации. Поскольку рабочие организации стремятся распространить свое влияние на весь рынок труда, каждый работодатель знает, что независимо от того, какие временные выгоды он мог бы получить от проигрыша своего конкурента, борющегося с успешным рабочим организационным натиском, это преимущество будет потеряно, когда профсоюзы достаточно укрепятся и распространят влияние и на его предприятие. Следовательно, работодатели осознают наличие у них общих интересов в том, чтобы подавлять профсоюзные организации, там, где они могут возникнуть. Тот факт, что они должны сблизиться только по одному этому весьма узкому вопросу, делает различия их интересов гораздо меньшим препятствием для них, чем для труда. См. Offe and Wiesenthal, “The Two Logics”.↩
12. Превосходное описание того, каким образом рабочие используют подобные ситуации в своих интересах в организовывании класса, см. в Howard Kimeldorf, “Worker Replacement Costs and Unionization: Origins of the U.S. Labor Movement”, American Sociological Review, Vol. 78, № 6 (2013): 1033-62.↩
13. Все еще одним из лучших обсуждений этого процесса является книга Michael Hechter, Principles of Group Solidarity (Berkeley: University of California Press, 1987).↩

