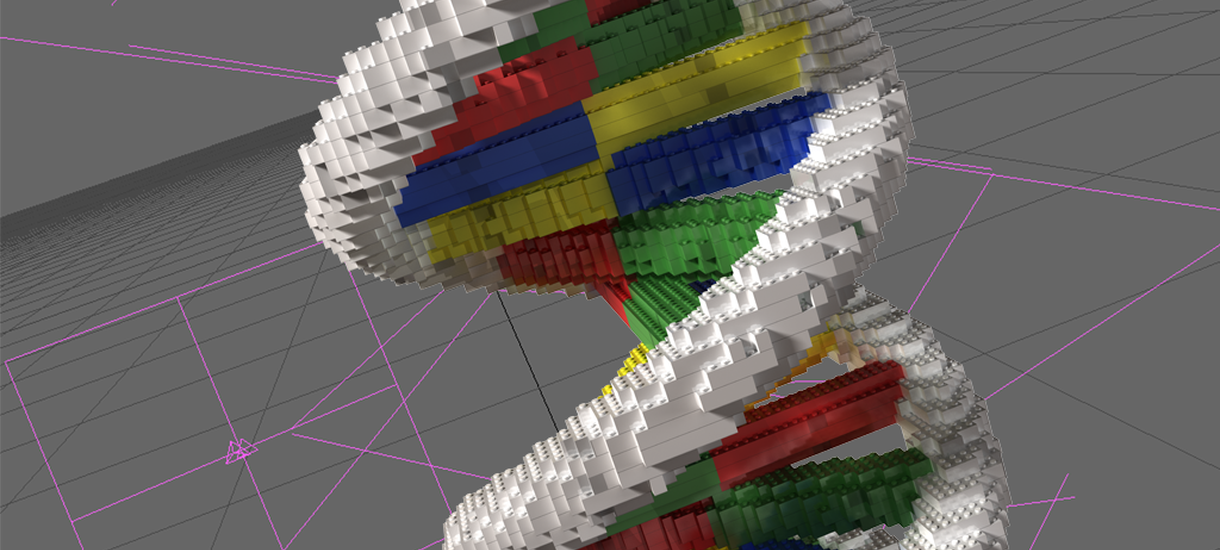Ричард Левинс, Ричард Левонтин
Вожди буржуазных революций осознавали потенциал научных исследований для военного дела и коммерции. Среди первых научных обществ были Королевское общество, созданное в 1662 году, Американская академия искусств и наук, основанная в 1780 году в Новой Англии лидерами революции, Франклиновское Американское философское общество (1768) и Военно-морская обсерватория в Гринвиче (1675) . Во Франции Директория основала в 1795 году Политехническую школу. Наполеон призвал ученых разработать боеприпасы, а также синтетические красители индиго как замену импортным красителям из Индии, ввоз которых был прерван из-за войны. Систематические исследования и каталогизация биологических ресурсов тропических регионов, завоеванных европейскими державами, привели при ведущей роли Линнея к расцвету систематической биологии. В 1862 году закон Моррилла в Соединенных Штатах способствовал созданию колледжей земельной субсидии по вопросам сельского хозяйства и механических ремесел в знак признания важности научных знаний для улучшения сельского хозяйства и горнодобывающей промышленности.
В течение первого века промышленной революции возросла роль науки как одного из эффектов капиталистической экспансии (подобно дорогам и маякам), а также как способа решения конкретных проблем (как в случае идентификации Пастером фитофоры, которая угрожала уничтожить французское производство вина). Но наука еще не была товаром. Ее применимость еще не была ясна, ее потенциал в основном еще не был использован, а продуктом зачастую по-прежнему оставалось объяснение эмпирических инноваций постфактум.
Товарное производство, затрачивающее человеческий труд на производство предметов или услуг для продажи, безусловно, существовало еще до капитализма. Но при капитализме товарная форма экономической деятельности все больше проникала во все аспекты человеческой жизни. В 1607 году в редко исполняемой пьесе «Тимон Афинский» Шекспир сетовал на эту коммерциализацию:
Что вижу? Золото? Ужели правда? Сверкающее, желтое… Нет-нет, Я золота не почитаю, боги; Кореньев только я просил. О небо, Тут золота достаточно вполне, Чтоб черное успешно сделать белым, Уродство — красотою, зло — добром, Трусливого — отважным, старца — юным, И низость — благородством. Так зачем Вы дали мне его? Зачем, о боги? От вас самих оно жрецов отторгнет, Подушку вытащит из-под голов У тех, кто умирает. О, я знаю, Что этот желтый раб начнет немедля И связывать и расторгать обеты; Благословлять, что проклято; проказу Заставит обожать, возвысит вора, Ему даст титул и почет всеобщий И на скамью сенаторов посадит. [1]Два века спустя Маркс и Энгельс писали в «Коммунистическом манифесте» (1848):
Буржуазия, повсюду, где она достигла господства, разрушила все феодальные, патриархальные, идиллические отношения. Безжалостно разорвала она пестрые феодальные путы, привязывавшие человека к его «естественным повелителям», и не оставила между людьми никакой другой связи, кроме голого интереса, бессердечного «чистогана». В ледяной воде эгоистического расчета потопила она священный трепет религиозного экстаза, рыцарского энтузиазма, мещанской сентиментальности. Она превратила личное достоинство человека в меновую стоимость и поставила на место бесчисленных пожалованных и благоприобретенных свобод одну бессовестную свободу торговли… Буржуазия лишила священного ореола все роды деятельности, которые до тех пор считались почетными и на которые смотрели с благоговейным трепетом. Врача, юриста, священника, поэта, человека науки она превратила в своих платных наемных работников.
Действия, которые ранее были прямым результатом взаимодействия между людьми, – развлечение, эмоциональная поддержка, обучение, отдых, уход за ребенком, даже человеческая кровь и органы для пересадки или использование матки – теперь попали на рынок, где человеческие отношения скрыты за безличной куплей-продажей. Каждый раз, когда новый аспект жизни становится товаром, такое попрание прежних ценностей вызывает некоторое возмущение. Когда цена на хлеб была «отпущена», чтобы отвечать потребностям рынка, начались «хлебные бунты» английского рабочего класса, коммерциализация средств связи и информационная монополия вызвала вопросы, поднятые делегатами стран третьего мира в ЮНЕСКО в 1980-х и требование нового международного информационного порядка. Коммерциализация здравоохранения вынудила людей поднимать вопросы о принципах работы национальной службы здравоохранения или страхования.
Следовательно, коммодификация науки – это не уникальная трансформация, а неотъемлемая часть капиталистического развития. И мы обсуждаем ее не для того, чтобы просто выразить возмущение, а для того, чтобы изучить последствия этих изменений для научной деятельности.
Товарная форма устанавливает эквивалентность между самыми различными предметами. Хотя верблюд не эквивалентен одеялу, стоимость верблюда эквивалентна стоимости определенного количества одеял: В = / = О, а С (В) = С (О). Посредством качественно эквивалентного обмена стоимостей предметов становится возможным торговать ими и, таким образом, превращать их друг в друга. Рынок делает то, чего не смогли алхимики: в 1980 году свинец может быть превращен в золото в соотношении 500 фунтов свинца на 1 унцию золота. Эта способность к созданию эквивалентности между разнородными предметами сделала торговлю преобладающей формой обмена продуктов человеческого труда за пределами отдельных домашних хозяйств. Существуют, конечно, другие формы обмена – обычное дарение, обмен, перераспределение в периоды нужды, ритуальные обмены. Но даже в семейном распределении могут доминировать товарные отношения, когда лучшая еда отдается работающему члену семьи или когда женщины вынуждены бороться за то, чтобы контролировать свои собственные доходы.
Коммодификация также означает гигантский шаг в развитии абстрактного мышления, в том, что отдельные предметы считаются экономически идентичными, а физически – различными, причем как их различие, так и сходство являются условиями торговли. Прежде чем обмен сможет приобрести полностью товарный характер и прежде чем обмен стоимостей сможет проявиться как объективное экономическое свойство товаров, обмен должен быть достаточно частым, чтобы действовал закон больших чисел. Своеобразные предпочтения отдельных покупателей, их относительная способность торговаться, их индивидуальные запросы выравниваются, когда одни и те же предметы постоянно покупают и продают, когда покупатель может отказаться от предложения и посмотреть на такой же товар в другом месте, когда производитель может рассчитывать на других клиентов. Коммодификация становится более глубокой, когда инвесторы могут вложить свои деньги в те предприятия, которые обещают принести наибольшую прибыль, и наличие рабочей силы позволяет инвесторам относиться к людям, – даже к очень квалифицированным людям, как к обобщенной человеческой рабочей силе, – взаимозаменяемым издержкам производства.
К концу девятнадцатого века научное производство являлось важной частью химической и электротехнической промышленности. Но только к середине двадцатого века наука стала товаром в массовом масштабе. В таком качестве ей присущи следующие характеристики.
Исследования стали бизнес-инвестициями. В корпорациях технических отраслей около 3-7 процентов продаж учитываются как расходы на исследования и развитие. Инвестиции в исследования, которые являются одним из нескольких способов инвестирования капитала, конкурируют с другими способами, например, увеличением производства существующей продукции, большим количеством рекламы, наймом адвокатов и лоббистов, скупкой предприятий в других отраслях, давлением на профсоюзы, подкупом членов кабинета министров потенциальных стран-клиентов и так далее. Все возможности сопоставлены друг с другом на единой шкале максимизации прибыли.
Широко известно, что расходы на научные исследования сокращают в первую очередь, когда корпорация испытывает экономические неудачи, вероятно, потому, что технические инновации не приносят непосредственной выгоды, тогда как увеличение рекламы, затраты на рабочую силу и материальные затраты могут немедленно отражаться на прибыли. Исследования корпоративных решений часто показывают, что обычный горизонт принятия решения менеджеров составляет не более трех-пяти лет. Так как исследования часто не приносят выгоды в такой период, то от них чаще и отказываются. В то же время, расходы на долгосрочные исследования обобществлены благодаря тому, что местом работы стали не отдельные предприятия, а государственные учреждения, такие как университеты и национальные институты. Таким образом, благодаря налоговым субсидиям, отдельная фирма уже не должна рисковать инвестициями, так как общий объем расходов распределен по всей налоговой базе. Когда такое обобществленное исследование близко к созданию рыночного продукта, на заключительных этапах разработка возвращается в частные руки в целях реализации исключительной собственности. Так дела обстоят, например, при выведении новых сортов в сельском хозяйстве. Государственные опытные станции развивают линии, которые затем выпускают сертифицированные производители семян. Линии затем становятся общей собственностью и приобретаются семенными компаниями, которые «доделывают» их и продают результаты фермерам.
Крайняя форма инвестиций в исследования – это научная консалтинговая фирма, чьим единственным продуктом является научный отчет. (В 1983 году в районе Бостона существовало от 100 до 200 фирм, занимающихся экологическим консалтингом.) Этот пример с наибольшей очевидностью показывает, что критерием качества отчета является удовлетворение клиента, а не экспертная оценка. Если отчет – это оценка экологических последствий, то удовлетворить клиента – значит убедить соответствующий контролирующий орган, что компания соблюдает закон и что её деятельность не наносит вреда, и сделать это за минимальную плату. У консалтинговой фирмы с корпоративным клиентом сложные отношения. Консультант явно предпочитает большой контракт маленькому и, следовательно, может настаивать на более тщательном исследовании, чем того хочет клиент. С другой стороны, из-за высокой конкуренции в области консультант побуждается к снижению расходов. В результате консультант делает достаточно исследований только для того, чтобы убедиться, что решение ответственного за экологию органа будет благоприятным, и указать те проблемы, которые могут возникнуть, а не лезет на рожон. Такие предприятия являются весьма рискованными для консалтинговых фирм. Их основной актив – это добрая воля клиентов, так как капитал состоит в основном из средств вычисления и офисной мебели. В сфере экологического консалтинга компании недолговечны и часто сменяют друг друга.
После того, как научный отчет становится товаром, на него также распространяется две другие особенности мира бизнеса: дилижанс можно угнать, а пиво можно разбавить, то есть научные товары можно украсть или сфальсифицировать. Оба вида предпринимательства – присвоение чужого труда и фальсификация результатов, чтобы опубликовать отчет о достижениях или устранить конкурентов, представляют собой растущую проблему. Хотя научное мошенничество случалось в прошлом, – всем известно о пилтдаунской подделке [2] – и борьба за приоритет имела место среди людей, соревнующихся за престиж, теперь у научного мошенничества есть рациональное экономическое основание, и поэтому оно может возрасти.
Научное открытие стало количественно исчислимым. Корпорация может оценить, сколько времени в среднем займет разработка нового лекарства или компьютера, как много это потребует труда, и сколько это будет стоить. Поэтому научно-исследовательская и опытно-конструкторская компания или отдел корпорации могут относиться к научной деятельности как к обобщенному человеческому труду, а не как к способу решения конкретных проблем.
Ученые стали «научными кадрами»: в этом качестве они взаимозаменяемы, подчинены затратам производства и управленческому контролю. Разделение труда в науке, создание специальностей и званий в настоящее время подвергается все большей рационализации. Творческая сторона научной работы все больше становится привилегией небольшой части работающих ученых, остальные же все больше пролетаризуются, теряя контроль не только над выбором проблемы и подходами, но и над их ежедневной, а иногда и почасовой, деятельностью.
Научный менеджмент, разработанный сначала для автомобильной промышленности в печально известной системе Тейлора на заводах Форда, распространился в торговле, офисной работе и научных исследованиях. В менеджерском подходе рабочая сила сознательно рассматривается в качестве объектов, которые будут использоваться для целей менеджеров. Фрагментация навыков, а также связанное с этим увеличение специализации обусловлено не интеллектуальными потребностями области, а учетом затрат менеджеров: дешевле подготовить одного гематолога и одного уролога, чем двух общих медицинских работников. Поэтому их рабочая сила дешевле, заработная плата ниже, устаревшие кадры можно уволить и заменить новыми. Кроме того, фрагментация и деквалификация укрепляет контроль над разделенной рабочей силой.
Но деквалификация в научной работе способствует большему отчуждению – производители не понимают процесс в целом, не могут сказать, в каком именно направлении и каким образом он движется, и имеют мало возможностей проявить творческий интеллект. Когда труд отчужден в этом смысле, когда наука – это просто работа, то увеличение надзора необходимо. Тяжесть ситуации в том, что надзор способствует дальнейшему отчуждению и развитию коррупции или безразличию. Он также забирает контроль из рук ученых и отдает его менеджерам. Сами исследователи и даже администраторы науки ответственны прежде всего не перед своими коллегами, а перед стоящими выше в иерархии и контролирующими средства управленцами. Побочным продуктом этого явления является то, что предложения по тематике исследования, предоставляемые финансирующим организациям, прибавили в объеме, подробности и осторожности, но утратили в честности отражения целей исследования. Финансирующие организации, заинтересованные в оправдании своих решений, выбирают осторожность и требуют больше документации.
Научная рабочая сила сама должна быть произведена. Университеты и профессионально-технические училища нацелены на подготовку различных категорий научной рабочей силы при минимальных затратах, превращая сам процесс обучения в услуги со стороны для отделов кадров частных компаний. На преподавателей давит аргумент экономической эффективности – не переучивайте студентов, сосредоточьтесь на том, что они должны знать, (то есть на том, чего требуют их работодатели), сократите продолжительность аспирантуры, выдавайте больше ученых степеней за те же деньги. В начальном образовании это давление означает «возвращение к элементарному». Утилитарный подход не является универсальным и не всегда бывает так груб. Часто у педагогов есть свои собственные цели, которые противоречат существующим социальным тенденциям. Но даже более инновационные программы производят людей для менее четко определенных задач управления системой и поддержания ее гибкости.
Ученые реагируют на эту коммодификацию по-разному. С одной стороны, она вызывает у них отвращение. Многие из них, будучи выходцами из среднего класса, выбрали науку как способ избежать мира коммерции. Они решили принять участие в труде, производящем потребительную стоимость, ценную саму по себе, вне обмена. Они оплакивают утрату прежней чести мантии и бескорыстной преданности истине, которая была организующим мифом дотоварной науки. Их возмущает пролетаризация научного труда и потеря самостоятельности, и они индивидуалистическими методами сопротивляются внедрению управленческого контроля и бюрократическому определению важности исследований. Если они и организуются, они избегают называть свои ассоциации профсоюзами.
С другой стороны, ученые спешат воспользоваться новыми возможностями для предпринимательской деятельности. Некоторые из них, особенно в течение короткого периода американского благополучия после запуска (советского) спутника, выбрали научную карьеру как одну из нескольких альтернатив, которые предоставляют финансовые и другие выгоды. Примерно две трети всех ученых, работающих в США, – это сотрудники частного сектора и бизнеса, где погоня за прибылью является открыто признанной целью.
Переходное состояние ученых как слоя профессиональных интеллектуалов, утрачивающих свой профессиональный статус и включающихся в структуру капитализма, обостряет противоречия в их идеологических позициях и социальной деятельности. Эти противоречия могут варьироваться от вызывающего утверждения об индивидуальной ответственности и осторожной критики до показного равнодушия и рабского низкопоклонства, от элитарного сопротивления бюрократизации и пролетаризации до реалистического или восторженного участия в новом порядке или же до союза с другими группами отчужденных в борьбе против капитализма. Это ведет к тому, что классовые различия, от которых страдает наше общество в целом, затрагивают также и ряды ученых. Большинство из 1 млн. или около того работающих ученых в Соединенных Штатах составляют научный пролетариат, поскольку они продают свою рабочую силу и не имеют контроля над своей продукцией или трудом. На противоположном полюсе находится от силы несколько тысяч ученых, которые составляют научную буржуазию, инвестирующую в исследования и во многом определяющую направление исследований и разработок. Между этими двумя полюсами находится группа мелкобуржуазных специалистов, работающих в одиночку или небольшими группами в университетах и исследовательских институтах. Хотя они могут мотивироваться большим разнообразием проблем, их деятельность все больше зависит от финансирования со стороны государственных учреждений, частных фондов и корпораций. Грант на исследования стал для них необходимостью. И связь между грантами и исследованиями постепенно трансформировалась: если первоначально грант был средством для проведения научных исследований, то для предпринимателей от науки исследования стали средством для получения гранта.
Вложения капитала в науку стали основными отраслями промышленности. К ним относятся химические вещества, аппаратура, питательные среды, стандартизированные линии лабораторных животных и научная информация. Одним из следствий этого является то, что развитие научных технологий часто отделено от научных исследований, которым они призваны служить. Технология предназначена не для поиска дешевого или лучшего способа изучения природы, а для получения прибыли от конкретных рынков.
В странах третьего мира торговые представители настойчиво убеждают руководство новых научно-исследовательских институтов, что им необходимо «лучшее», «самое современное» оборудование задолго до того, как имеются запасные части, служба ремонта или надежное обеспечение электроэнергией. Президент страны может красоваться на торжественном запуске новенького 16-канального электроэнцефалографа для психиатрического института, но он не покажется на пробном испытании ведер, наполненных банановым пюре, которые используются для наблюдения за плодовыми мушками. Важнее основать институт, чем поддержать его жизнедеятельность. Поэтому сейчас так широко распространены рассказы о недостаточно используемых, разрушенных или заброшенных объектах по всей тропической зоне.
В наше время, чтобы поддержать одного ученого, работающего в США, требуется около 100 000 долларов в год, что эквивалентно заработной плате, возможно, пяти работников промышленности или сферы обслуживания. В странах третьего мира зарплаты ученых ниже, но оборудование и материалы стоят дороже, а инфраструктура зачастую отсутствует. Обеспечение ресурсами для поддержки одного ученого может требовать труда 50 или более работников.
Первоначально научные журналы публиковались научными обществами, чтобы заменить личное общение. Теперь, однако, изданием научных книг и журналов занялись издательские компании. Представители компании часто льстят ученым и уговаривают их написать еще один учебник, скажем, в области популяционной генетики, потому что «у нас уже есть хорошо продающиеся книги о молекулярной генетике и генетике развития, и это завершит серию». Что опубликовать – теперь зависит от того, что издателю и редактору нужно заполнять журнал, а автору нужна публикация к моменту принятия решения о получении пожизненного контракта, работа или прибавка. Редко возникает вопрос: «Является ли эта публикация необходимой?» Таким образом, значительная часть часто упоминаемого информационного взрыва – это на самом деле шумовой взрыв.
Коммодификация университетской науки является результатом финансовых потребностей университетов. Ученые рассматриваются как инвестиции по четырем причинам: для получения грантов на исследования от государственных учреждений и корпораций; для конвертирования научных докладов в пиар и престижа в пожертвования; для повышения «статуса» университета как основания повысить плату за обучение и привлечь студентов; и, наконец, для того, чтобы иметь долю в патентах на изобретения, сделанные преподавателями университетов. В итоге, распределение средств в университете зависит от престижа и финансовой рентабельности различных программ. Также ученые в ряде университетов под давлением со стороны своих администраторов вынуждены заниматься исследованиями в лучше финансируемых областях, таких как генная инженерия.
Условия существования слоя ученых в капиталистической экономике закрепляют убеждения и взгляды ученых, приобретенные в рамках общего либерально-консервативного наследия. Несмотря на то, что ученые имеют широкий диапазон убеждений, и, несмотря на все наши противоречивые убеждения, действительно существует соответствующая скрытая идеология, которую будет справедливо назвать буржуазной. Ей присущи следующие характеристики:
Индивидуализм. Применительно к науке, буржуазный атомистический взгляд на общество утверждает, что прогресс создается небольшим числом людей (которыми просто случайно оказались «мы»). Ученые думают о себе как о свободных деятелях, которые независимо следуют своим собственным склонностям. «Как для астрономии трудность признания движения земли состояла в том, чтобы отказаться от непосредственного чувства неподвижности земли и такого же чувства движения планет, так и для истории трудность признания подчиненности личности законам пространства, времени и причин состоит в том, чтобы отказаться от непосредственного чувства независимости своей личности». (Толстой, «Война и мир»). Нигде ощущение независимости не является более сильным, а обман – более жалким, чем среди интеллектуалов.
Индивидуализм в науке способствует возникновению общего убеждения, что свойства популяций просто выводятся из этих незаряженных атомов (генов) населения или общества. Он также превращает субъективный опыт карьерных амбиций в изобретение эгоизма как закона эволюции. Одним из важнейших элементов индивидуалистической идеологии является отрицание того, что это идеология.
Элитизм. Это утверждение превосходства небольшого меньшинства интеллектуалов часто приводит к убеждению, что выживание человечества зависит от способности этого меньшинства с помощью обмана и хитрости заставить остальных людей делать то, что выгодно для них. Этот перекос особенно заметен в том, как в научной фантастике описывается сопротивление политическому угнетению, когда небольшая группа посвященных ученых вступает в сговор с целью обмануть правителей. Такой элитизм глубоко антидемократичен, поощряет культ знаний [3], эстетическое манипулирование и презрение к тем, кто делает это не по правилам научного сообщества, что зачастую усугубляет расизм и сексизм. Пренебрежение народными знаниями привело к неудачам в развитии сельского хозяйства. Элитистский взгляд поддерживает менеджерский подход к управлению интеллектуальной жизнью и рассматривает совместный самоотбор академической и деловой элиты как разумный способ управлять человеческими делами.
Во внутренних теоретических вопросах науки элитизм, видимо, способствует вере в принцип иерархической организации и поиску решающего фактора, который вписывается в редукционистскую картину мира, препятствующую изучению взаимного проникновения частей в пользу командно-иерархической модели генетики, общества и даже экосистем. Если индивидуалистический взгляд способствует модели мира, в которой части (например, виды в экосистеме), по сути, независимы, то элитистская парадигма предписывает организацию, исключающую автономию.
Прагматизм. В западной идеологии «прагматическое» является похвалой, в отличие от «идеологического», которое несет уничижительный смысл. Для ученых прагматизм означает признание ограничений, предписанных коммодификацией и специализацией. Это значит, – выполнять работу, не спрашивая о ее цели, – позиция, увековеченная в песне Тома Лерера [4] о ракетном эксперте: «Если ракеты взлетели, кого волнует, куда они летят? Это не мой департамент», – сказал Вернер фон Браун». Поскольку основной способ, которым ученые влияют на политику, – это их рекомендации «лицам, принимающих решения», то для того, чтобы эти рекомендации учитывались, нужно стараться сохранить доверие. Поэтому совет должен ограничиваться областью приемлемого: страх столкнуться с недоумением, которое лишает убедительности, не только предписывает сохранять благоразумие в рекомендациях, но и, в конечном счете, сужает интеллектуальные горизонты советников. Прагматик всегда с подозрительностью смотрит на возмущение несправедливостью социальных отношений как идеологическое и отражающее незрелость по сравнению с хладнокровием настоящего ученого.
Разделение мышления и чувств. Ученым когда-то приходилось бороться за установление принципа, что все утверждения о мире должны требовать доказательств. Ни обращение к авторитету, ни собственные желания не должны иметь какого-либо веса в научном споре. Определенное отделение мышления от чувств, вероятно, было необходимым, чтобы установить нормы науки. Но как только оно стало абсолютным, это разделение стало препятствием на пути сознательной научной практики. Оно скрывает источники наших предпочтений о направлениях деятельности или используемых методах, оно предписывает формализованное вступление к научным статьям, претендуя на устранение ученого как индивида из творческого процесса посредством жалкого приема отказа от местоимения первого лица и замены на грамматическую форму, которую Сьюзен Гриффит охарактеризовала как пассивное безличное. Более того, не так-то просто вновь связать вопросы о фактах с вопросами о ценностях после их формального разграничения. В то время как философы посвящают жизнь дискуссиям о том, как связать «сущее» с «должным», ученые могут свободно создавать все виды оружия, прикрываясь безличным словарем «рентабельности», «соотношения потерь» и уклоняясь, таким образом, от ответственности за воздействие продуктов их труда.
Наконец, мнимое превосходство мышления над чувством означает, что те, кто сдерживает чувства, превосходят тех, кто их выражает. Одним из результатов того, что женщины социализированы в нашем обществе как хранительницы чувства, они либо должны подавлять себя, чтобы иметь возможность заниматься наукой, либо они систематически недооцениваются, будто бы «более эмоционально» означает менее рационально.
Редукционизм. Специализация научного труда и командных функций научно-исследовательской деятельности создает модель научной организации, которую легко принять в качестве модели организации мира. Природа воспринимается как повторяющая организационную структуру нашей компании или университета, в которой схожие явления находятся в подчинении одного председателя, отдельные, но взаимосвязанные явления подчинены общему декану, а не связанные между собой факты относятся к разным факультетам или отделам. Таким образом, специализация в практике соединяется с атомистическим индивидуализмом, укрепляя редукционизм, который все еще господствует в имплицитной философии ученых.
Как социалисты, мы критикуем коммодификацию науки не для того, чтобы призвать к возвращению во времена, когда наука еще не была товаром. Это было бы столь же бесполезно, как и антимонопольные законы, которые стремятся воссоздать именно те условия прошлого, которые привели к появлению монополий. У нас иная цель. Коммодификация науки, ее полное включение в процесс капиталистического производства, является основным фактом научной деятельности и глубоко влияет на мышление ученых. Отрицать ее актуальность – значит оставаться под ее властью, а первым шагом на пути к свободе является признание масштабов нашей несвободы.
В качестве работающих ученых, мы считаем коммодификацию науки первопричиной отчуждения большинства ученых от продуктов их труда. Она стоит между яркими озарениями науки и соответствующими достижениями в области благополучия человека, что часто дает результаты, противоречащие поставленным целям. То, что в современном мире сохраняется голод, вызвано не сложной проблемой, которая мешает всем нашим усилиям обеспечить людей пищей, а тем, что сельское хозяйство в капиталистическом мире, связано прежде всего с получением прибыли и только косвенно – с питанием людей. Также и организация здравоохранения – это прежде всего экономическое предприятие, и только во вторую очередь она зависит от потребностей, связанных со здоровьем людей. Иррациональные черты сложно организованного научного мира являются результатом не неудач интеллекта, а сохранения капитализма, который, помимо прочего, подавляет также и человеческий интеллект.
Важно подчеркнуть, что в мире, в котором некоторые страны порвали с капитализмом, наука идет не по тому пути, по которому она должна идти, и что ее нынешняя структура предписана не природой, а капитализмом, и что нет необходимости подражать этой системе, чтобы заниматься наукой.
Перевод Дмитрия Райдера
Оригинал: Libcom
Читайте також:
Критичне мислення та розчинення докси (інтерв’ю з Лоїком Ваканом)
Нейрокапіталізм (Ева Гес, Генрик Йокайт)
Генетика перетворилася на лівацьку науку
Проекту массовой доступности высшего образования может быть свернут (Крейг Калхун)
Скромное предложение, имеющее целью не допустить, чтобы дети бедняков в Ирландии были в тягость своим родителям или своей родине, и, напротив, сделать их полезными для общества (Джонатан Свифт)
Примечания переводчика
1. Цитируется по переводу Н.Мелковой
2. Пилтдаунская подделка – поддельный череп якобы древнего пилтдаунского человека, составленный из черепа человека, челюсти орангутана и зубов шимпанзе.
3. Разумеется, авторы не против знаний, но против их фетишизации как самоценного объекта.
4. Том Лерер – американский математик, певец и сатирик, автор многих юмористических песен посвященных науке.